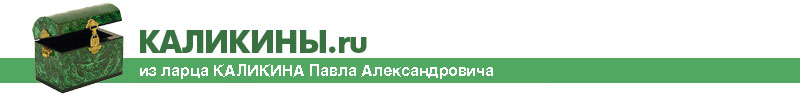| Вацлав ГАСИОРОВСКИЙ
«Ураган»
VIII
Дешамп продвигался с отрядом дорогой на Вычерпы,
Рудники, Кломницы и Плавно, направляясь прямо к Варшаве, возле которой
надеялся встретиться с генералом Милье.
Флориан был в отличном настроении. Наконец-то закончится для него
эта мука. В конце концов, даже если ему трудно рассчитывать на то,
чтобы встать перед алтарем… поскольку необходимо это дело матушке
изложить, ее разрешение и благословение получить… и тогда уже будь
что будет… как-нибудь удастся пани Дзевановскую убедить и получить
от нее хотя бы слово доброе. Кто знает, может и помолвку удастся
выпросить? Пока Флориан так размышлял, рассчитывал и заблаговременно
обдумывал, как в самом выгоднгом свете появиться перед матерью,
с какими словами обратиться к пани Дзевановской – пришло ему в голову,
что эскадрон может быть по пути и в Готартовичи заедет!.. Вот тогда
он мог бы своим появлением матушку порадовать, и о намерениях с
ней объясниться. Обрадованный самой мыслью провести хотя бы краткий
привал в Готартовичах - он тотчас, на первом же привале, пользуясь
тем, что Дешамп был в хорошем настроении, свой проект ему изложил.
Однако Дешамп неприветливо дернулся и ответил:
– Даже не думай! Тридцати шагов в сторону сделать не можем!.. Дорога
прямая, как стрела… Следует отложить, капитан… Нет, сейчас не время!
Война.
Готартовский опечалился. Белый полковник посмотрел на него проницательно
и добавил строже.
– Очень вам удивляюсь, что отважились… что вам подобные намерения
в голову приходят!.. Разве можно было ожидать другого ответа?..
Стало быть… ну так где же, в конце концов, находится эта твоя халупа…
родина или как там?..
– В Готартовичах, под Равой!
– Ага! Постой… под Равой! Рава! Что-то такое есть. Должны проезжать!...
Сейчас проверю! Ага! Уязд… а потом Рава!.. Там я назначил стоянку!
Хм! Ну… это, пожулуй, можно было бы изменить, и вместо Равы… отдыхать
будем в этих твоих… как говоришь?
– Готартовичах!..
– Именно! Этого даже произнести невозможно.
Флориан хотел поблагодарить полковника, однако тот его одернул строго:
– За что? Кого? Ничего определенного пока. Посмотрим, как на дороге
выпадет.
Зная строгий, неприступный характер белого полковника, Флориан удовлетворился
этим половинчатым обещанием, уверенный, что Дешамп его свято исполнит.
И возрадовалось сердце Готартовского, но и внутреннее сожаление
его охватило. Вот, еще недавно бедствовал и жаловался на судьбу,
на печальную долю… а тут уже и замыслы свои видит исполняемыми,
и пожелания осуществляемыми. Все складывается наилучшим образом.
Если сейчас предстанет перед Зоськой, то уже с материнским приветствием
для суженой сына.
После длительного марша эскадрон Дешампа около полудня остановился
в Круглой Воле, расположенной на окраине любоченских боров. Флориан
был уже почти у цели… еще добрых две мили и он окажется наконец
в Готартовичах. Сердце капитана забилось быстрее. Мысленно он уже
осматривал и столовую, в которой их будут принимать, и каморку,
в которой ему придется исповедаться перед матушкой в своих чувствах
к дочери полковника. Казалось ему, что он уже слышит добродушные
замечания деда, грустные вздохи изнеженного Сташека, что младшие
родственники приветствуют его веселым гомоном, а челядь с экономом
Левандовским – благодушным ворчанием. Вот уж удивляться будут этим
французам, вот уж развлечение для них, и событие немалое в этом
медвежьем углу!..
Так думал Флориан, отдыхая на скамье в деревенской комнате, и не
замечая, что и жажда, и голод его мучают. Не до еды ему было, не
до напитков…
Вдруг вызвали его к полковнику.
– Ну что? – сказал тот при виде Флориана. – Едем… через Хоцив на
Раву, решено! Как? Верно?
Готартовский побледнел.
– Отвечай же, капитан!.. Сам говорил, что знаешь эти края отменно!...
Все же на Сохачев нам будет ближе?..
– На Сохачев?.. Да! – отметил с усмешкой Готартовский.
– Вот видишь!.. Сам убедился!.. Отлично!.. Двинемся тотчас! – принял
решение полковник и пркиазал трубить выступление.
Готартовский сел на коня и поплелся за эскадроном.
В глазах у него потемнело. Все, чего добился, чем жил несколько
дней, разбилось о дикую, непонятную строгость Дешампа.
В первую минуту он хотел рассказать полковнику о своем деле, хотел
просить его, чтобы если и впрямь столь незначительное отклонение
кажется ему невозможным, пусть разрешил бы ему отлучиться от отряда
всего на один день. Но строптивая душа Флориана упорствовала, он
замкнулся в себе. Ехал за полковником в глухом молчании, печальный.
Вдруг, подняв глаза и оглядевшись вокруг, показалось ему, что прямо
перед ним взметнулась башенка костела в Рзечице. Присмотрелся, и,
к великому своему изумлению и радости, заметил знакомую усадьбу
и хаты Маловерзы… Стало быть, отряд находится на дороге в Готартовичи!..
Сгущались сумерки, когда эскадрон приблизился к Готартовичам. Флориан,
несмотря на царившую темноту, уже различал и крестьянские хаты,
и шпицы строений фольварка.
Деревня тонула в глубокой тишине.
Два-три мерцающих огонька в окнах, а сверх того, несмотря на раннюю
пору, темнота в комнатах и людских избах. Дешамп ворчал и говорил
капитану Доухар так, чтобы Флориан мог слышать:
– Хорош будет ночлег. Ни собаки, ни человека! Черт дернул меня послушать!
Деревня глухая, пустая… Хорошо будем выглядеть!.. Эй, капитан Готартовский…
разве это не здесь еще?!
– Здесь, здесь, господин полковник! – ответил поспешно Флориан.
– Пустынное место.
– Это только кажется. Деревня, осень! Люди здесь живут иначе! Если
господин полковник позволит... я проскочу вперед… предупредить о
нашем прибытии!...
– Действительно! Поезжай! Съезди, понежничай там, избавь нас от
ненужной картины.
Флориан не заставил себе повторять это дважды, пришпорил коня, пригнулся
в седле и двинулся напрямик через поле к усадьбе.
Готартовицкая усадьба тем временем была погружена в темноту. Запертые
ставни, двери и ворота фольварка неприятно удивили Флориана. Однако,
не теряя времени на призывы, он привязал коня к фуре, а сам быстро
перелез окружавщую фольварк каменную насыпь и подскочил к дверям
во двор. Крикнул раз и другой, железным засовом заколотил, рявкнул
во все горло, даже эхо далекое ему ответило - во дворе никто не
подал признаков жизни.
Холодный озноб прошиб Флориана. Недоброе предчувствие охватило его.
Сам не зная, что делает, он продолжал стучать, все сильнее, все
резче.
В это время за дверями послышались тихие, неспешные шаги, а затем
раздался чей-то испуганный голос:
– Кто там? Кто там?!
– Открывай!
– Да кому?.. Чего хотите!.. Нет тут никого!
– Я Готартовский, черт подери! Не к чужим стучусь… к себе!..
– Иезус! Да это паныч! – произнесли за дверями.
– Открывай немедля! – набросился капитан.
Послышался щелчок замка, и двери отворились нараспашку.
Готартовский вошел, перед ним стоял сгорбленный старик с лампой
в руке.
– Кто вы? Кто вы? – лихорадочно спрашивал Флориан.
– Паныч меня не узнал?! – дрожащим голосом ответил старик. – Миколай…
староста.
– Где матушка?.. где дедушка?!
– Эх… благородный паныч… ведь были… все, буквально еще неделю тому
назад… а то и поболе немного!.. Да, и пришло несчастье! Забурлило…
и схлынули все со двора! Последним старший господин со слугами…
завтра неделя будет, как уехал!... Нет никогошеньки!
– Говори, что случилось…
– Несчастье, сударь, да еще какое!..
– Говори же! Что?! Ну…
– Тотчас все вельможному пану расскажу обстоятельно!.. пусть же
вельможный пан хотя бы в комнаты изволит… поскольку холод идет…
Флориан, охваченный смутным предчувствием, хотел настоять на своем,
однако старик побрел в комнату направо, усадил его за накрытый ковриком
столик и ответил с присущей ему словоохотливостью:
– Было у нас тихо и спокойно, вплоть до того, как вельможный паныч
ночью приехал с этим могучим солдатом и той солдаткой…
– Только не тяни, говори сразу!..
– Простите, благородный паныч … Все расскажу… все беды!.. Ага! Стало
быть, паныч сразу же уехал. А тот солдат и та солдатка остались.
В эти несколько дней суматохи в усадьбе было без меры, особенно
от этой бабы, о которой говорили, что тоже офицером в войске была…
Потом вдруг оба уехали. Бартошув Войтек отвез их за Раву, и конец!..
Прошло потом два дня, самый младший паныч на Всех Святых из Петркова
приехал, из школы от отцов пияров.
Флориан слушал сидя словно на углях. Старик тянул свое:
– Радости было – не передать! Даже на второй день в усадьбе шум
и переполох стоял. Я как раз с людьми был на току за молотьбой,
когда влетел управляющий Левандовский.
«Миколай, – кричит, – кто в Бога верует, пусть на коня садится…
старшего паныча догоняет!..»
Разогнали всю деревню на четыре стороны света, и от пана Марцела
ни следа! А что вы хотите от юноши!.. Военная служба ему по душе
пришлась. Не удержался, украдкой заранее коня вывел, узелок под
мышку, палашик на бок и айда воевать. Ой, было же печали и слез
– без меры… Старший пан даже зубами скрипел, а уж барыня выплакаться
не могла! Прошло примерно три дня… смотрю, вдруг что-то чернеет
на дороге в Раву… едва успел управляющему сказать, а тут уже валят
на подворье прусаки!.. Приехало их примерно половина роты. Сразу
в усадьбу, к барыне и суд какой-то учиняют, все что можно из кладовых,
из комнат тащат, лучших коней забирают и весь фольварк по ветру
хотят пустить… И все это потому, что они вельможного паныча приехали
искать, и не нашли!..
– Меня?!
– Именно!.. Так нам объяснил управляющий, который был свидетелем
всего разговора. Под конец схватили, сволочи, нашего пана Станислава…
голову ему остригли, парик надели, гамаши и… с собой забрали… Барыня
аж в ноги им кидалась, просила, предлагала выкуп дать!.. Где там!
Выкуп взяли, и паныча тоже, а что касается деревни, то до двадцати
самых лучших парней у нас забрали… И увели! Потом…тут уже с барыней
такая болезнь приключилась, что с ней и не поговорить было.. Не
ела, не пила… сидела и словно еле дышала. Приезжал и ксендз приходской,
и господа из Целондза, утешали, успокаивали, а ничего не помогло…
Неделю тому назад разбудила ночью управляющего, меня, колебки приготовили,
и барыня с самым младшим панычем и барышней, с управляющим и тремя
слугами уехали. Остался только старый пан!..
– Где он?
– О! Тут вот какое дело! С барыней ехать он не хотел… а потом, когда
она уехала, ну же голосить и причитать, так что никакого сладу с
ним не стало. Совсем голову потерял, и сколько моя старая ни просила,
сколько руки целовала, ничего не помогло!.. Позавчера словно с неба
свалился какой-то здоровенный шляхтич, и пан… Разговаривали они
со старшим паном, советовались, сокрушались, смотрю я, а старший
пан собирается с ним в дорогу. «Холод то какой, ненастье», – говорю.
«Глупишь, Николай», – говорит. – «Не собираюсь я здесь мариноваться…
Все в свет пошли, ну так и я с ними!..» С тем и поехали!..
Флориан слушал рассказ старосты, и ушам своим не верил. Казалось,
что старик плетет ему какие-то небылицы, что вот сейчас распахнутся
двери и выйдут к нему матушка с дедом, а за ними и родственники,
и челядь. Поднялся Флориан с места, тяжело пошевелил плечами, взял
фонарь и стал обходить по очереди комнаты усадьбы, словно бы во
сне, словно ища подтверждения словам старосты.
В усадьбе Готартовских царило запустение. На каждом шагу виднелись
свидетельства грабежа, поспешного, лихорадочного сбора имущества.
Тут сундук с отбитым замком, там треснувшая крышка ларя, там выдвинутые
ящики гданьских шкафчиков, множество разбросанных предметов, оставленных
как попало на столах и на полу. Оружие снято со стен, вешалки для
старосветских нарядов светились пустототй. Вот незакрытая пустая
шкатулка, кровать без постели, буфет, наполненный остатками старых,
не имеющих ценности черепков, и на всем следы времени – пыль.
Сердце Флориана сжалось при виде этих руин, этого разрушения.
Ему хотелось больше узнать от старосты, хотелось по крайней мере
понять, куда направилась матушка, и кто забрал с собой деда, однако
тут память старого слуги подвела. Он говорил что-то о том, что пани
Ядвига собиралась бежать к родственникам, что господа говорили что-то
о Люблине, а дед грозился, что достанет Марцелека и на краю света
и за уши выдерет, однако все это было туманно, неясно, сомнительно.
Что касается того шляхтича, который так неожиданно заехал к Готартовским,
староста ничего не мог сказать, что могло бы натолкнуть Флориана
на какую-нибудь мысль. По мнению Николая, ничьим родственником он
не был, свойственником тоже, поскольку они с дедом чинились, но
и чужим не был, поскольку сильно обо всем заботился.
Несмотря на невразумительные ответы, Флориан и далее расспрашивал
бы старосту, не теряя надежды добиться от него хоть чего-нибудь,
но тут за оградой прозвучали сигналы отряда егерей.
Старый слуга испугался.
– Паныч! Кажется, прусаки.
Флориан грустно усмехнулся.
– Эх!.. Может быть, было бы лучше… если бы они пришли!.. Ну, Николай!..
Беги открывай ворота… неси огня, у нас гости! Трудно будет их принять
в такое время! Что делать! Может, кого-нибудь из деревни возьмешь
себе в помощь.
Николай засеменил выполнять приказание.
Спустя минуту в комнате появился Дешамп с офицерами.
– Ну, капитан, что-то нам тут не очень рады. Пусто, темно… кто знает,
не лучше ли было отправиться в Раву!
Флориан молчал бледный, подавленный.
Дешамп посмотрел беспокойно на лицо Готартовского и бросил нетерпеливо:
– В чем дело… Даже ответить не считаешь нужным?!
– Что тут скажешь!.. – глухо ответил Флориан. – Были у меня семья…
дом… почти неделю жил мыслью, что их увижу!.. Видите сами, господин
полковник, разоренье… прусаки наехали… Ограбили, брата в рекруты
взяли… а остальные разбрелись по свету…
Французские офицеры замялись. Дешамп тяжело сел на скамью и ответил
серьезно:
– Объясните же нам, капитан… Что случилось?.. Говори! И тебе станет
легче… и нам это, тысяча чертей, не безразлично!...
Флориан стал повторять рассказ старосты. Когда закончил, Дешамп
сухо произнес:
– Тут много неясного, непонятного… ибо почему же прусаки пришли
искать тебя, капитан?..
Готартовский изложил всю историю от события, которое произошло в
самом начале его военной службы у Мадалинского, как уже тогда он
был приговорен к смерти за уничтожение отряда прусских гусар и за
то, что раскроил лоб поручику Шмидту. Как при возвращении на родину
с посланием генерала Домбровского снова встретил того самого Шмидта,
и на этот раз для разнообразия угостил его пулей. Кто знает, прусак
мог узнать его и, придя в себя, на него указать.
– Хм! – заметил полковник. – Это та еще шельма, тебе не повезло!
– после чего, повернувшись к офицерам, он произнес сурово: – Господа!
Нашего коллегу постигло несчастье! Его ограбили, разорили, ну так
и мы не будем усугублять положение и забирать последнее. Выдвигаемся
немедленно. Есть тут неподалеку некое местечко… там остановимся!..
Не велика дорога!..
Готартовский не мог противиться. Вскочил в седло и потащился за
эскадроном.
Новое бремя легло на плечи Флориана. Военное лихолетье опустошило
его родной дом, разметала по свету самые близкие ему сердца, где
их теперь искать, когда искать! А может, мать отправилась с Урсулой
и Фабианом в Варшаву?.. В таком случае, кто знает, могут с легкостью
найтись. Дешамп был прав. В освобождении Сташека можно быть более
чем уверенным, поскольку прусаки за него немного запросят: не солдат,
не какая-нибудь персона… а тут толпа значительных прусских офицеров
в плену.
Чем дольше размышлял над всем этим Флориан, тем большую надежду
обретал.
Даже стыдно было Готартовскому перед самим собой, что так легко
на все нашел успокоение и выход. Укорял себя и понуждал к печальным
размышлениям.
На следующий день еще до рассвета отряд Дешампа выступид из Равы
на Курзешин, Хршоновицы, Старпол до Вискитека.
За Рудкой, под Пущей Кораблевской, эскадрон наткнулся на разведывательный
взвод дивизии генерала Милье. Проводивший рекогносцировку офицер
объяснил Дешампу, что генерал Милье следует от Лешицы к Варшаве,
что еще вчера под Сохачевым разъезд имел легкую стычку с казаками,
и что в это время дивизия должна находиться на дороге из Болимова
в Медневичи.
На это известие белый полковник объявил короткий привал в ближайшей
деревне и двинулся всем эскадроном, несмотря на спускающуюся ночь,
чтобы в соответствии с приказом как можно быстрее соединиться с
генералом.
Генерал Милье очень обрадовался возвращению Дешампа, поскольку главный
штаб начинал скандалить из-за докладов о движении неприятеля, да
и сам генерал, несмотря на приказ продвигаться к Варшаве, опасался,
чтобы не попасть в западню. Поскольку имел перед глазами свежий
пример стычки под Сохачевым. Осторожный Бенигсен, несмотря на переговоры,
не спешил убирать казачьи пикеты. Маршал Дау и Мюрат оставались
в тылу в нескольких днях марша.
Дешамп развеял все сомнения… на юге тишина, отход прусаков за Вислу
завершен, вооруженная помощь жителей обеспечена.
После рапорта Флориан с офицерами был приглашен к генералу. Милье
поблагодарил его и поздравил с тем уважением, которое питал к Готартовскому
полковник, а под конец заверил, что император сумеет наградить его,
что же касается взятого в неволю брата, то при первом же удобном
случае главному прусскому штабу… будет сделано соответствующее представление.
Добрые слова генерала и выраженная им надежда на вызволение Сташека
доставили Флориану немалую радость - однако радость его была большей,
когда, выходя от генерала, он лицом к лицу столкнулся с Яном Дзевановским.
Они бросились друг другу в объятия.
– Ты ко мне, пан Флориан?!.. Добро пожаловать, ваша милость!.. Не
ожидал такого сюрприза!..
– Ну, так уж дорога распорядилась…
– Побледнел, сударь!... Пойдем ко мне, передохнешь… Твоих там целая
толпа.
Дзевановский потащил Флориана к себе на квартиру, забрасывая вопросами.
Готартовский беспорядочно, кратко рассказывал о завершенной экспедиции
- когда закончил, спросил в свой черед Дзевановского, где он был.
Пан Ян немного нахмурился.
– Да! Я тоже немалый ломоть страны объехал и кажется заслужил к
себе внимание самого маршала, однако мне что-то не по вкусу, что-то
меня мутит!.. Предпочел бы, поверь мне сударь, и этой экспедиции
не совершать, и других почестей не знать…
– Как же это? Что с вами?! – обеспокоился Готартовский. – Ваши слова
удивляют меня.
– Меня тоже многое удивило. Что мне скрывать? Скажу вам всю правду.
Мне ни к чему скрываться. Так вот, как ты наверное помнишь, генерал
Домбровский отправил меня в армию Бенигсена. Собственно даже не
он, а генерал Милье, или, насколько я могу судить, кажется, сам
маршал Даву. Снабдили в дорогу, письмо секретное вручили и я двинулся…
прямо под Лович. Однако генерал Бенигсен уже перенес свою ставку
под Прагу. Приказ был ясный, вручить бумаги ему лично, стало быть,
я поехал дальше на Варшаву. Не стану рассказывать вашей милости
как вынужден был скрываться и в крестьянской одежде среди прусаков
путешествовать, как меня уже было схватили возле Воли и отправили
на вербовку, и как я убежал от них… это слишком длинная история…
Словом, только спустя неделю добрался я до неприятельской арми и
вручил письмо, а сам, согласно приказа, ожидал ответа. Долгими были
дебаты российского штаба, так что мне пришлось провести несколько
дней в лагере генерала Бенигсена. Принимали меня там очень политично,
а вдохновившись важностью моей миссии, почитали меня знатной персоной
в наполеоновской армии, и повсюду, не скрываясь, вполне искренне
со мной говорили. И вот, пан Флориан, поверь… слушал я, и мороз
по коже продирал… поскольку с болью убеждался, чего стоят все эти
французские клятвы и наполеоновские обещания.
– Простите, пан Ян, я не понимаю.
– Ясное дело! Нам кажется, что Наполеон идет нам на выручку, что
хочет, как говорится, вернуть великолепие древней короны … а между
тем все его хлопоты преследуют только его личные цели и выгоды!..
Нас принмают за нечто, на что есть спрос.
– Пан Ян, не из зависти ли ты судишь?
– О, дай Бог мне ошибиться! Ничего более не желаю!.. Ничего более
не требую!.. Представь теперь императора Александра!.. Бенигсен
приказал ждать именно его ответа. Так вот император Александр ответил.
Слышишь, он отверг все выгодные предложения, заявив: «Я в союзе
с Фридрихом, поклялся, не предам!» – Эх, мосць Готартовский… тяжело
служить такому господину.
– Ваша милость горячится! – возразил Готартовский. – Это предмет
высокой политики!.. Не нам ломать головы над ее течением!.. Посмотрим
на результаты! Зачем забивать себе головы? Наше дело ждать конца.
Одно скажу вашей милости, и вполне могу поручиться, что ты его не
знаешь… и когда увидишь его на поле боя… тебе ничего подобного в
голову не придет! Нет, в таком великом рыцаре, в таком воителе никчемная
мысль зародиться не может.
– Дай Бог! Дай Бог! Только того и желаю, чтобы я ошибался! А доказательства
того, что не позволил себе разочароваться и восторжествовать горечи,
очевидны… поскольку, как видишь, остался… и, вот, в милости… Милье
очень ко мне доброжелателен. Уже получил аксельбанты. Адъютантом
меня своим назначил. Чуть ли не французом меня хочет сделать… Молодежи
к нам привалило пропасть. Подожди, познакомишься с ними! Ян Козитульский
из Скирневич целый отряд с собой привел. Способный юноша, закончил
кадетский корпус, может стать хорошим офицером. Столько de publicis
тебе рассказал, а твою беду вовсе мимо ушей пропустил… Расскажи
мне еще раз, как это случилось… Стало быть, прусаки устроили набег
на деревню матушки?
– Извините, позже расскажу вам об этом подробнее. В голове у меня
настоящий хаос! Мне не собраться с мыслями… Но постойте… вы сказали,
что были в Варшаве!..
– Был! – подтвердил Дзевановский. – Два раза. Трудно передать, что
там твориться.
– И долго ваша милость… гостили?
– Да где там! Мне просто дорога выпала через Варшаву… так что всего
лишь на минуту. И то должен был остерегаться, поскольку миссия важная!
Если бы прусаки нашли бумаги, дело легко могло дойти до конфликта…
Петлял как только мог… ради большей безопасности даже… у самых близких
не показывался…
– Это разумно! – пробормотал Флориан, обманутый в надеждах, и желая
поделиться опасениями, спросил осторожно: – Видите ли… пан Ян, один
вопрос лежит у меня на сердце… Тогда мы так внезапно уехали… так
по-гайдамацки, до сих пор себя упрекаю… не обидел ли я чем-нибудь
так ко мне доброй пани полковницы Дзевановской…
– Вот новость! Выбросьте из головы эту печаль! Она женщина добрая,
жена солдата, разве что отметит вашу энергичность и служебное рвение…
– Может… однако… всегда!
– Пустое! Пустое! Не о чем вам терзаться угрызениями совести! –
убежденно ответил Дзевановский, снова отметая повод для разговора.
Готартовский набрался смелости и промолвил неожиданно:
– И как же там, все здоровы?
– О ком вы говорите?! – вопросом ответил Дзевановский, беспокойно
потирая наморщенный лоб.
– Пани… тетушка ваша, полковница!
– Ах! Без сомнения… не видел ее! Не был!
– Не видели! – повторил нараспев Готартовский с упреком.
– А что? Что было делать! Таков был приказ, я боялся быть узнанным!
Очень жаль!.. Но возможности не было.
Флориан сосредоточил изучающий взгляд на лице Дзевановского.
– И не видели их?..
– Клянусь вам, что не видел! Но, – добавил Дзевановский, вдруг охваченный
важной мыслью, – замечу вашей милости, что уже возвращаясь, за Варшавой
встретил… знакомого торговца, который из страха перед нашествием
с женой и детьми перебирался в Краков… Так вот он сказал, что тетушка
выехала из Варшавы… к родственникам.
– Выехала, говорите, к родственникам!..
Однако Готартовскому не дано было долго размышлять над новыми обстоятельствами.
Походная жизнь диктовала свои законы.
Ординарец Дзевановского доложил об обеде. В любую минуту можно было
ожидать свертывания лагеря.
Дзевановский повел Флориана туда, где польские добровольцы обедали
с французскими офицерами, и стал знакомить его с молодежью. Готартовски
здоровался равнодушно, прерывал начинавшийся с ним разговор и едва
овтечал на вопросы, не разделяя ни царившего тут воодушевления,
ни подъема. Напрасно Дзевановский обращался к нему и хотел втянуть
в общую беседу. Флориан замкнулся в себе и молчал. Тут их, сидящих
в углу, нашел поручик Мартин, который пришел сообщить Готартовскому
последние новости.
– Капитан, – произнес он, – ты даже не представляешь, что происходит!..
Всех вас ждет по крайней мере семидневный отпуск. И вас, пан капитан,
тоже.
Готартовский безразлично молчал. Дзевановский спросил скорее из
вежливости, чем из любопытства, угадывая в ответе француза скрытую
шутку.
– Отпуск?.. Разве это невозможно.
– Да! Мы это называем отпуском. Тут как раз прибыл курьер от князя
Берга, с приказом немедленно выступать на Варшаву… Генерал Милье
связался с нашим полковником… при этом справедливо усомнился, что
кто-либо из нас способен после такого форсированного марша выступить
в авангарде… стало быть, назначил четвертый эскадрон… Мы двинемся
следом с генералом. Нам это полагается по справедливости, поскольку
не у каждого такие твердые кости, как у Дешампа! Я первым с радостью
принял известие, что спустя несколько часов увижу Варшаву!.. Что
– я не прав?!..
Флориан неожиданно оживился
– Полковник движется на Варшаву?
– Несомненно, и не позднее чем через час! В эту минуту должно быть
натирается по обыкновению водой со спиртом, а потом только смотри
как поскачет. Это, извините господа, маринад! Другой бы себе мясо
от костей поотбивал. Гарантирую, что генерал и не думал покловника
назначать, но он сам просил об этом!
– Извините, господа, – прервал его коротко Флориан, – мне нужно
к полковнику.
Дзевановского поразила неожиданная решимость, которая появилась
на лице Готартовского, и он отозвался беспокойно:
– Куда вы? Зачем?
– У меня важное дело, извините! – ответил сухо Готартовский и не
медля отправился прямо на квартиру генерала Милье, где стоял и Дешамп.
Как и предположил поручик Мартин, белый полковник сменил одежду
после привычных натираний, которыми закалял тело. Флориана принял
вскоре.
– Что? Что такое?! – спросил нетерпеливо Дешамп, поскольку новая
экспедиция уже ждала его.
– Господин полковник кажется в Варшаву?
– Ну и что? – проворчал он. – Не бойтесь… вы остаетесь, поедете
трусцой!.. Канареечки!..
– Собственно… господин полковник!..
– Что, что такое?!.. Со своим вопросом ступайте доложиться к дежурному
адьютанту. У меня нет времени. Мне уже не до вас…
– Я хотел с господином полковником.
Дешамп широко открыл глаза.
– Да, – повторил Флориан. – Хочу просить, чтобы полковник оставил
меня при себе.
– Остаивть при себе?! Тебя? Капитан, ты с ума сошел… У вас шесть
часов времени!.. Ступай, спрячься под одеяло!.. Туда же! Захотелось
ему! Довольно! Выглядишь так, словно душа из тебя вот-вот вылетит.
– Нет, господин полковник! Ни капельки не чувствую усталости, и
прошу вас как о милости… чтобы позволили мне идти с вами .
– Милости!.. Милости!.. Такая щепка! Ну, подожди!... Второго коня
у тебя нет!.. Тоже ему приснилось… Милость ему оказать… Но… но,
подожди, капитан… что можно сделать. Скажем генералу!..
Флориан хотел благодарить, однако Дешамп внезапно насторожился.
– О чем вы думаете, капитан! Марш в ту же минуту освежиться водой,
рому горячего… растянуться на скамье раз и другой… иначе и не думай…
Ступай и жди приказов.
Готартовский вышел от полковника присмиревшим. Он двинется на Варшаву…
двинется тотчас… там могут разрешиться терзающие его неопределенности,
там выяснится наконец, что с ней случилось, куда уехала, где находится.
Дзевановский, который поджидал выхода Флорпиана от полковника, схватил
его за плечо.
– Пан Флориан! – сказал он сердечно. – Вы что-то замышляете. Может,
следовало бы мне сказать. Знаете наверное и не сомневайтесь, что
я предан вам…
– Ничего, ничего существенного. Вот, хочу ваша милость… Подумал,
что удобнее мне будет идти с эскадроном моего полковника, так как
он меня знает…
Дзевановский покачал головой.
– Рассказывай сказки и оправдывайся, если хочешь, чувствами перед
Дешампом! Ха! Конечно, я не имею права требовать от вашей милости
раскрытия замыслов…
– Какие там замыслы! Хотите, пан Ян, знать всю правду… Так вот,
так меня тянет в Варшаву, что охотно полетел ьбы туда одним махом.
– Прими во внимание, ваша милость, большую усталость. Время неблагоприятное
для здоровья. Недолго и занедужить… Слышал я, в разъездах вы были
немалых.
– В Ченстохове отдыха было предостаточно.
– Возможно! Но что вашу милость так торопит ехать в Варшаву?.. Все
пойдем туда, только днем позже. В компании со своими всегда веселей…
– Иногда… иногда и час много значит.
Дзевановский грустно посмотрел на Готартовского и тяжело вздохнул.
– Правда, и час значит. Эх… если бы веселье, если бы радость всеобщая,
а тут куда ни двинешься, всюду печаль и боль… Сколько зла причинили
нам прусаки!.. Страшно подумать. Всюду такой хаос… Говорю вашей
милости, что за то время, что я провел проезжая через Варшаву, чего
я только не наслушался. Поскольку на воре и шапка горит. Как только
началась война с французами, уже тогда, берегись, подстерегали молодежь,
что из-под стрех вырывалась на войну, а в последнее время будто
бы начальник полиции де Тили проявил себя во всю прыть…
Флориан почти не обращал внимания на слова Дзевановского. Варшава
была у него перед глазами, о ней он думал и в нее рвался.
Двадцать шестое ноября было для Варшавы днем перелома,
днем, о котором еще несколько недель назад нечего было и мечтать.
На улицах с самого утра загрохотали повозки, экипажи и брички… Губернатор
Кюхлер, а за ним и де Тили, и Бахман, и Бауман, и Мейел, и целый
легион прусских чиновников потянулись к Праге. За чиновниками чередой
потянулись санитарные повозки, везущие раненых прусских и российских
солдат, а затем начался многочасовой марш войск.
Давно уже опустилась ночь, морозная, лунная ночь, а понтонный мост
прогибался, скрипел; среди пустых улиц разносился угрюмый лязг оружия
и глухие шаги спешно проходящих отрядов.
Город молчал, молчали и оставлявшие его войска. В молчании этом
было что-то от задумчивости, и что-то от стыда.
После полуночи все стихло. Наступила гробовая тишина, а затем донесся
треск горящего моста.
Прусаков уже не было.
Утром город проснулся раньше обычного и неспешно выбрался на улицы,
тревожно осматриваясь, не покажется ли из-за угла дома отряд ненавистных
прусаков, не затарахтит ли на перекрестке коляска господина де Тили,
не покажется ли окруженная гайдуками карета Кюхлера. Более смелые
шли на берег Вислы. Там дымились остатки моста, шипя протяжно при
столкновении с быстрым течением реки и выбрасывая вверх клубы пара.
А дальше, за Вислой, тянулись ленты растянувшихся войск, прикрываясь
направленными на Варшаву орудиями.
Около шести вечера со стороны Воли послышался протяжный, усиливающийся
топот копыт. Эскадрон кавалерии на полном галопе мчался через Варшаву
напрямик к берегу Вислы, задержался у остатков тлеющего моста, после
чего развернулся.
По улицам разнесся крик: «Французы!» Крик разнесся и, переходя из
уст в уста, поднимался на этажи и мезонины Старого Города, стучался
в окна домиков, усадеб и дворцов, заглядывал в каждый закоулок и,
наконец, обрушился на стены Варшавы.
Толпы людей кинулись приветствовать избавителей. Улицы превратились
в застольные залы. Перед гауптвахтой, около Бернардинцев, где эскадрон
французских егерей остановился на отдых, завязался настоящий бой.
Бой всего лишь за рукопожатие, бой за право дотронуться до французского
мундира, бой за каждое слово, за каждый глоток вина, каждый кусок,
предложенные солдатам Наполеона.
На гауптвахте возле Бернардинцев гражданская стража охраняла французских
коней и подтягивающиеся возы с амуницией. Воля дрожала от топота
и, одновременно, от лязга оружия. Генерал Милье уже вступал и занимал
предместья.
Ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое ноября не нашла в Варшаве
ни уважения к своей темноте, ни покоя для своего величия. Ибо это
была не ночь, а скорее великий, светлый, ожидаемый, взлелеянный
в мечтах, вымоленный у Бога день! Солнцем его был тот эскадрон тринадцатого
полка егерей. Лучи падали, били и от тех потертых темно-зеленых
мундиров, и от тех почерневших, посеревших на ветру лиц. Били и
падали в сердца варшавян! И свет исходил из нахмуренных лиц, и искры
сыпались из глаз, а огонь источался из уст, из души. Люди плакали
на улицах! Никто не спрашивал о причине слез.
Город пульсировал. Песни и выкрики раздавались, смолкали и разносились
с новой силой.
Никто не думал об отдыхе. Те, кто до эскадрона Дешампа протиснуться
не мог, бежали к Воле. Верхом счастья было принять у себя француза
и угощать его.
Целовали руки солдатам, прижимали к лицу добродушно смотрящие головы
кавалерийских коней. Стайки детей перебегали улицы. Седовласый старец,
едва способный держаться на ногах, срывался со своего кресла, подмигивал
хохочущей сударушке и гнусавил под нос, охотно притопывыая:
Слушай, Бася, кажется наши бьют в барабаны!
Флориан не избежал волны, которая захлестнула эскадрон
Дешампа. Затянутый вместе с другими под гостеприимные крыши дворянской
усадьбы на Новым Швеце, несмотря на отказы и объяснения, он вынужден
был поддержать компанию, но когда первые тосты и воодушевление соплеменников
миновали, выбрался потихоньку на улицу и поспешно повернул к бывшим
коморкам пани Дзевановской на Подвалах.
Дорога была не легкой – мундир офицера французских егерей то и дело
становился предметом оваций и приветствий. Готартовский однако же
ловко выскользнул из одной и другой толпы людей и, держась в тени
под стенами, успешно добрался до дома. Тут поджидало его разочарование.
В комнатах пани Дзевановской жил уже кто-то другой. Соседи, да и
сам домовладелец заверили, что полковница выехала еще накануне праздника
Всех Святых, так с этого времени никто ни ее, ни дочери не видел.
Флориан вспомнил о том, что пани Дзевановская собиралась в тот памятный
день на квартиру брата, могла находиться у него и, не теряя надежды,
пошел через Капитульную на Медовую, миновал дворец Браницкого, повернул
на Сенаторскую, рядом с резиденцией примаса, и оказался на Данилловичевской,
где жил пан Ян Дзевановский. Однако эту старую квартиру пана Яна
он нашел закрытой.
Готартовский хотел было от соседей получить какие-нибудь сведения,
однако дом словно опустел: кто жив остался, все убежали на улицы
принять участие во всеобщей радости и веселье.
Жестоко разочарованный, Флориан неспешно вышел на улицу, решив для
себя, что вернется сюда через день. Готартовский чувствовал усталость,
ускоренный марш только сейчас дал о себе знать. Он медлил возвращаться
в центр города, хотел обрести покой и отдых. Двинулся неспеша по
Данилловичевской и размышляя, где бы найти отдых, заметил полуприкрытые
двери винного погребка. Не раздумывая, зашел.
Погребок был пуст. Даже постоянные посетители должно быть находились
где-то возле французов на Краковском. Готартовский тяжело опустился
на скамью за столом и потребовал подогретого пива.
Юная шинкарка при виде диковинного офицерского мундира проворно
закрутилась, улыбнулась ласкоко раз и другой, мигом поставила кружку
требуемого напитка и, стрельнув глазами на эполеты Флориана, спросила
смело:
– Должно быть, пан не из наших краев? Должно быть издалека?
– Эх! – буркнул неохотно Флориан и задумался над своей заботой.
Шинкарочка не позволила сбить себя с толку. Игриво взглянув, покрутила
носиком и спросила повторно, словно сама с собой разговаривая:
– Каких я только мундиров не видела… и гренадерские, и вольтежерские,
и прусские, и российские, и наши… а такого не припомню. Ваша милость,
пожалуй, из адьютантов губернатора?
– Ошибаетесь, сударыня! – наконец ответил Флориан. – Это мундир
французских егерей.
– Французских егерей! – воскликнула с оттенком радостного удивления
шинкарка. – Вот это да!.. Как это я сразу не заметила! Вот голова!..
Эй, пани Войцехова! Пани Войцехова!.. Кума! Идите… у нас же гость!..
Пан офицер французских егерей! Иезус! Мне это даже в голову не пришло…
Если ваша милость позволит, мы вам стол свежей скатертью накроем…
Там, возле окна, неудобно… может здесь, поближе к камину. Пиво,
конечно пиво, однако может еще и вина с пряностями! Хорошего вина?
Пан офицер не здешний, он не знает, а между тем у нас «Под Кунтушем»
самые достойные граждане и шляхта пьют.
Шинкарка сновала по погребку; крутилась живо и, говоря нетерпеливо,
заглядывала в каморку позади стойки. Прежде чем Флориан успел что-то
ответить и поблагодарить, в комнате для посетителей показался куцыф,
коренастый мужичонка в старопольском сюртуке, в яловых сапогах и
высокая, худая старуха, с лицом перекошенным, сморщенным и словно
кулачок из-под белого чепчика выглядывающим.
– Кланяемся вам, сударь! Мацей Копытко, сапожник, к вашим услугам…
а присутствующей здесь вдовы и хозяйки – кум! – представился мужчина,
а указав на старуху, добавил: – А это… наша Войцехова… немного нянька…
и почти родственница.
Старуха кивнула капитану, Копытко поклонился и оба начали пожирать
глазами мундир, фуражку и эполеты Флориана.
– Рад, рад… познакомиться! - пробормотал Готартовский.
– Ваша милость, простите меня за смелость! – ответил Копытко. –
Но поскольку я только что от Бернардинцев вернулся и так намучался,
столько бился, чтобы достать хоть одного солдата, да где там! Стыдно
признаться… едва кусок французского сукна остался у меня в горсти,
чего себе простить не могу… поскольку у этого француза, после обнаружения
столь жестокого повреждения шаровар, может сложиться ошибочное о
нас представление… Видно, милость Божья снизошла на нас, коли к
нам сюда вашу милость направила!... Простите, ваша милость, пан
офицер, сапожную настойчивость… однако эх… день сегодня такой наступил,
такого времени пришло, что даже у шпандыря сердце отзовется! Пусть
же кума поспешит и резво. Такой гость!... Пожалуй тут вся улица
посинеет от зависти.
– Спасибо! Спасибо вам на добром слове.
– Эх! Пан офицер! – подхватил весело сапожник. – За что бы еще Бог
должен нам платить?.. Скорее это мы все сейчас в большем чем когда-либо
перед ним долгу… Вина! Извините… извините… настойчивость сапожника…
За ваше здоровье… за удачу… за… того!.. Тьфу! Простой человек обыкновенно
и выразить не может на кого он злиться и чем терзается!..
– Моя хозяюшка! – произнес неожиданно капитан. – Вы, должно быть,
хорошо знаете окружающие домовладения?
– Еще бы не знать. Пан офицер, я же здесь родилась, еще мои родители
держали этот самый погребок, еще два года назад я жила тут с моим
покойным, свети Господи над его душой, тут он у меня и умер от жестокой
лихорадки!.. И вот уже третий год веду здесь уединенную жизнь с
этой Войцеховой и с семейством кума, что в этом самом доме мастерскую
держит!.. Кого бы я не знала…
– А не слышали ли вы о пане… Яне Дзевановском?
– Почему же не слышали?.. – вмешался имчь Копытко. – Поверьте, пан
офицер, ни одной заплатки на его сапоге не найдете, которая бы не
из моей мастерской вышла! Пан Дзевановский здесь жил, неподалеку,
в двух комнатках… благородный шляхтич и, как видно, офицер отменный.
– У меня и в самом деле каждый день бывал посетителем!.. Я утром
только ставни открыть успею, а двери уж с треском открываются и
голос пана Яна раздается. Доблестный кавалер… – заключила со вздохом
шинкарка.
– А не известно ли вам что-либо о тетушке пана Дзевановского?
Шинкарка с кумом посмотрели друг на друга многозначительно. Последний
ответил грустно.
– Это о пани полковнице Дзевановской?..
– Да, именно так! – поспешно подтвердил капитан.
– Пропала, пропала и она, и ее дочка.
Флориан побледнел.
– Что? Как это пропала?!
– Ах! Пан офицер… не одна она, бедняжка! Сколько было таких жертв.
– Ради Бога, скажите мне всю правду!
Копытко понизил голос:
– Пани полковница перебралась на квартиру братца, кажется сразу
после его отъезда… Точно помню… я как раз с сапогами поспел, а двери
вдруг открывает девушка… и говорит – нет Яся, уехал, неизвестно
когда вернется!.. Слово в слово, выяснилось, что кажется имчь пан
Дзевановский двоюродным братом ей приходится… Так вот…
– Извините, кум, – прервала его шинкарка, – я об этом лучше расскажу,
своими глазами наблюдала. Спустя, быть может, неделю после того,
как пан Дзевановский последний раз был в погребке, около полудня
смотрю… а по улице валят прусаки с милиционерами … Не случайно,
думаю, оказались они на нашей тихой улице. Выглянула, позвала Войцехову,
а сама платок – на голову и лечу посмотреть, что там происходит!..
Рассказывают, развернули они какой-то список и пошли искать пана
Дзевановского… Что там делалось наверху, о том не знаю, поскольку
стража никого даже в коридор не пускала… Шарили там, наверное, часа
два. Потом телегу подогнали. На телегу усадили пани полковницу и
ее дочку, и отвезли на гауптвахту… а оттуда, наыверное… еще дальше
отправили!.. А что до этого пану офицеру?!..
– Ничего, рассказывайте дальше! – бросил Флориан, стискивая зубы
и подавляя приступ отчаяния.
– Уже немного осталось. Увезли их, и словно камень в воду. Спустя
какое-то время смотрю, кто-то входит, а это сам пан Ян. Я даже испугалась…
Как раз за этим столом сидел, где ваша милость… Сетовал, печалился,
тревожился… однако что он мог поделать: сам спешил куда-то, да и
прусаков должен был остерегаться, поскольку хотя эта нечисть уже
перебралась за Вислу, однако его, наверное, не помиловали бы. Потом
какой-то мужик с бабой явились. Ходили от дома к дому и расспрашивали
о пани Дзевановской. Баба, как она рассказывала, даже в полицию
ходила справляться, поскольку пани полковника якобы должна была
ей много денег. В полиции сказали, что пани Дзевановская осуждена
за содействие тем заговорщикам, что к французам пробирались… и что
выслали ее… куда-то в наказание! Куда, не помню!.. Баба с мужиком
покрутились и исчезли. Ой, пан офицер… Да разве они одни!.. Де Тили
никому не спускал: ребенка схватит, и того жестоко избьет. А этот
Кюхлер, что таким благородным казался и с нашими панами заигрывал…
Прусак как есть, такой же завзятый, как и другие!!..
Флориан молчал, собирая остатки сил, чтобы не показать слабости.
Крупные капли пота катились по его лицу.
Теперь ему стало понятным странное поведение Дзевановского и те
слова, которые он произнес ему на прощание… Зоська пропала… исчезла,
того и гляди… погибнет в той неволе!..
Готартовский тяжело поднялся с места – душно ему было в этой маленькой
комнате для посетителей.
– Извините, хозяюшка! Пора мне.
– Пан офицер уже уходит!.. Как это нелюбезно!.. – воскликнула с
искренним сожалением шинкарочка. – А то и квартира нашлась бы!..
– Нет. Спасибо! Сколько с меня следует?
– Пан офицер, неуж-то нанесете нам такую обиду, вынуждая нас в такой
радостный день принимать деньги! – произнесла шинкарка.
– А если ваша милость действительно хочет рассчитаться с нами, –
поддержал мастер Копытко. – так уж останьтесь здесь! Ночь поздняя.
Не отель, не салон, однако все удобства у меня найдете, а женщина…
– Даже в голову себе не бери, кум, чтобы я позволила тебе пана офицера…
Хо, хо! Мы что, обидели его? У нас что, нет комнаты для гостей?..
Кум и кума собирались не на шутку поссориться, однако Флориан пристегнул
к поясу палаш и произнес, поднимаясь:
– Ни у вас, ни у вас остаться не могу… Извините… На днях, Бог даст,
зайду… не сейчас. За доброту сердечную благодарю. Не расстраивайтесь,
другие придут, должно быть, много их придет … в гостях недостатка
не будет!.. Бывайте!..
Глаза шинкарки влажно заблестели. Она преградила дорогу Флориану.
– Пан офицер, – промолвила шепотом. – Вы расстрроены!.. Должно быть,
вы родственник пани полковницы? А может, имчь пана Яна?... Напрашиваться
не смеем!.. Воля ваша! Комнатки у нас скромные...
Готартовский с благодарностью посмотрел на шинкарку, руку ей пожал
и вышел на улицу.
Тут только он почувствовал усталость и опустошенность. Быстрые пульсы
стучали в висках, кровавые пятна поплыли перед глазами, грудь раздирала
сухая боль, оцепенение.
Он шел словно во сне, сквозь туманное марево огней едва различая
дома и улицы. Доносившиеся отовсюду шум и выкрики раздражали его,
наполняли болью, терзали. Он с удивлением спрашивал себя – что это
их так забавляет, чему они радуются?!
Флориан бежал, терзаемый внутренней лихорадкой, бежал прямо, поворачивая
лишь тогда, когда лежащая перед ним улица вдруг сворачивала или
заканчивалась развилкой.
Мысль о Зоське пульсировала в нем, рисуя перед воображением картины
одна другой страшнее. От прусаков всего можно было ожидать. В исступлении
они не знали жалости, в насилии и произволе – чувства меры. Чем
вернее была безнаказанность, тем сильнее выступала их жестокость!
Флориан узнал об этом не сегодня.
«Пропала, пропала для тебя… на века!» – шептал ему чей-то печальный
голос, и одновременно блуждавшие по улицам тени складывались в издевательски
искривленное лицо Шмидта.
Настоящий бунт разверзся в голове Флориана.
За столько лет битв, за самоотверженность, за самопожертвование,
за голод, за раны, за тоску… такая его встречает награда?..
Он поднял вверх глаза. Безоблачное сапфировое небо покрылось миллионами
звезд.
Флориан хотел было выругаться, но неожиданно испугался чего-то и
остановился. Взгляд его опустился, и он вздрогнул. В шаге перед
ним с легким шорохом катила свои волны Висла.
Капитан перекрестился. Одно движение, и он свалился бы с обрывистого
берега в реку.
Готартовский отшатнулся, отступив несколько десятков шагов, тяжело
опустился на сваленный возле Вислы строевой лес, и тут буквально
застыл от мучившей его боли.
Месяц показался из-за облаков и осветил оба берега. Он приглядывался
к сверкающим крестам на башенках костелов и к отполированным шпонтонам
прусского разъезда, к спокойному течению Вислы и отражающейся в
лужах Праге, к медным каскам французских драгун и к остриям пик
казацких пикетов армии Бенигсена. Королевский замок на фоне светлого
неба выглядел черным, печальным, словно погруженным в раздумье о
былом великолепии, в воспоминания о минувшем.
Вдруг на краю террасы замка показался стройный силуэт мужчины, укрытый
широкой буркой. Незнакомец глянул на дальний горизонт, прошелся
взглядом по контуру нагроможденных стен Варшавы и медленным шагом
направилась к Висле.
Мужчина часто останавливался, словно взвешивая что-то мысленно,
и снова шел без видимой цели, кружа среди ухабистых насыпей и разбросанных
стволов деревьев, покуда не приблизился к месту, где лежал Флориан.
При виде бесчувственной фигуры Готартовского, словно вытянувшейся
в предсмертных судорогах на костре боли, мужчина остановился. Минуту
он колебался, затем смелым пружинистым шагом подошел к Флориану
и тронул его за плечо.
– Эй!.. Приятель! – позвал он. – Что ж это?! В такой-то холод пришел
здесь ночлег искать…
Флориан пошевелился словно в ознобе. Незнакомец, присмотревшись
к нему, узнал французский мундир.
– Хм! Эк его, должно быть, попотчевали! Видно какой-нибудь француз!
– пробормотал сам себе под нос и заговорил на чистом французском:
– Давайте, вставайте! Ночь опускается, зачем вам тут отираться!
Готартовский меджленно поднял отяжелевшие веки, голос неизвестного
показался ему знакомым.
А тот настаивал все решительнее:
– Не мешкайте, ибо вам это гостеприимство может выйти боком!.. Мороз
надвигается, мороз!.. А сверх того, не очень-то тут безопасно!
– Оставьте меня! – пробормотал с усилием Флориан, отодвигая руку
мужчины. – Мне тут хорошо!..
Лунный свет упал прямо на Флориана и отразился в его золотых офицерских
эполетах, выглядывавших из-под плаща. Незнакомец подступился настойчивее.
– Что я вижу?!.. Офицер… здесь?!.. Поляк? Вставайте же, ваша милость!..
И не думай, что оставлю тебя здесь! Ну, облокотись на меня. Так!
С каждым может случиться. Угощали вас от всего сердца! Так, что
вам в голову и в ноги ударило!.. Ну… сейчас!
Незнакомец ухватился за Флориана и поставил его на ноги.
– А теперь провожу вас в город!..
Флориан посторонился. Сознание вернулось к нему.
– Благодарю, в этом нет нужды! – сказал он глухо. – Ваша милость
заблуждается… принимая меня за опьяневшего! Бывают минуты… когда
человеку лучше было бы напиться…
Незнакомец устремил быстрый взгляд на Флориана и произнес внезапно:
– Да ведь это мосць Готартовский?!
Капитан вздрогнул, посмотрел на незнакомца и прошептал в замешательстве:
– Князь!
– Вот так встреча?! Какими же дорогами, сударь, надо ходить, чтобы
я на тебя на этом пустыре набрел?.. Я, видишь ли… как обычно, прогуливаюсь…
плутаю! Однако сударь, сударь… в эту пору?
– Нашло на меня… Ваша княжеская милость… сам не знаю.
– Выглядишь чем-то огорченным! Ну, пойдем, сударь, за мной! Пошли
отсюда!..
Флориан шел за Понятовским понурив голову. Вспомнил, что недавно
этой самой дорогой шагал с Зоськой… и боль с новой силой резанула
его.
Из темноты, под Замком, показались освещенные двери дворца Под Блаха.
Понятовский бросил вдруг:
– А где ты, мосць Готартовский, квартируешь?..
– Где квартирую? – переспросил Флориан, собираясь с мыслями. – Сам
еще не знаю, мосць князь!..
– Ну так иди ко мне.
– Разве я смею?
– Ну… не бойся… какой-нибудь угол найдется! – заключил с улыбкой
Понятовский. – Хлопот мне не прибавишь, а согреться необходимо.
Флориан хотел и далее отнекиваться, однако князь Юзеф сказал обиженно:
– Разве кров мой тебе не по сердцу? В таком случае не смею настаивать.
– Ваша княжеская милость, это всего лишь убеждение в том, что я
недостоин такой чести…
– Сказки рассказываешь, ваша милость! Солдат солдату ровня! – возразил
Понятовский и повернул в сторону дворца.
Флориан, следуя за князем, миновал череду с изысканной роскошью
обставленных салонов, утопающих в полумраке притушенных ламп, и
снова оказался в том самом тщательно отделанном, заставленном безделушками
кабинете, в котором проводил с ним ту памятную беседу. Понятовский,
однако, задержался здесь лишь настолько, чтобы забрать подсвечник,
и через длинный, узкий коридор проводил Флориана до двух просторных
комнат.
– Ну, вот мы и у себя! – произнес весело князь, устанавливая подсвечник
на стол.
После этого он позвонил камердинеру и отдал ему какие-то распоряжения.
Готартовский, несмотря на удрученность и утомление, принялся с любопытством
осматривать эти комнаты, не в силах противостоять настоящему изумлению.
Эти комнаты ничем не напоминали остальные помещения дворца. Стены
протые, слегка побеленные, сходившиеся под сводами в массивные арки,
напоминали те старосветские покои, в которых суровость нравов любила
брататься с рыцарскими достоинствами. Столы, кресла и скамьи скромные,
деревянные; во второй комнате – кровати, узхкие, твердые, оленьими
шкурами покрытые, на стенах – несколько миниатюр, портрет короля
Станислава, прикрытый темной вуалью. Оружие развешано над гравюрами,
но главное – нет ни тени той изнеженности, ни следа изысканной роскоши,
которыми отличались остальные помещения дворца Под Блаха. Словно
тут, на другом конце коридора, был совершенно другой мир, жил другой
человек.
Камердинер поставил на стол порднос с винами и закусками. Князь
сбросил бурку, надел военную куртку и пригласил за стол Флориана.
– Сядь, сударь! Пусть и мне позволено будет в этот день приветствовать
в твоем лице победоносную армию! Ешь, пей, ваша милость, не стесняйся.
– Ваша княжеская милость, чем же я заслужил…
– Вы все… все единодушны! – порывисто ответил Понятовский, тормоша
рукой кольца своих вьющихся волос. – Вы, защитники отечества! Не
по нраву вам Понятовский, поскольку он смотрит глубже! Народ поднимается…
Возможно уже поднялся… Соберете армию и вперед?!..
– Той армии будет нужен вождь! – бросил Флориан, борясь со слабостью,
которая снова начала одолевать его.
– Вождь, – повторил в задумчивости князь Юзеф. – Что ж! Есть пан
Домбровский, да и пан Зайончик, верно, тоже крутится. Еще бы, тоже
солдат. Поскольку Вождь отказался…
– Верно, ваша княжеская милость, – взволнованно ответил Готартовский,
теряя самообладание. – Вождь не принял предложение императора и…
что же в этом хорошего? Возможно, моя простая натура этой утонченности
понять не может, однако этот отказ мне не нравится!..
– Потому что ты не учитываешь, какую ответственность он взял бы
на себя. На его голову могли бы упасть проклятия целого народа!..
Ему нельзя и никому нельзя – прикладывать руки к этому делу без
должных гарантий. Легко злоупотребить славным именем!.. Иногда одно
имя может перевесить чашу весов!.. Вождь выполнил свой долг. Изучил
намерения и отступил.
– Извините, ваша княжеская милость, однако меня это не убеждает
– нет!..
Понятовский сердито насупился.
– Что, сударь?!.. Хочешь, чтобы на новую погибель отправились тысячи?..
Хочешь, чтобы снова легионы гибли на субтропических островах и в
пустынях?! С легким сердцем приговорил бы народ на невзгоды, на
сиротство?!..
– Мосць князь! Я помню, как, будучи простым солдатом в бригаде имчь
пана Дзержика, стоял под Маркушовым. В это время в лагерь приехал
королевский посланец, полковник Киркор. Содержание доставленного
письма вкратце нам было известно. Это было уведомление о присоединении
короля к Тарговицкой конфедерции. И по сей день я помню слова ответа
вашей княжеской милости: «Лучше было принять почетную смерть». И
эти слова запали мне глубоко в душу. Возможно эти тысячи охотно
вынесут долю, которую им готовит судьба?
Понятовский нетерпеливо дергал складки жабо. Готартовский продолжал
голосом тихим, слабеющим:
– Я не знаю, мосць князь, и заранее прошу меня извинить, однако
там, на полях широких, на равнинах великих, под гром орудий, военных
сигналов, лучше, понятнее чем тут! В легионе было тяжело, но радостно.
Множество неудобств, голод был ежедневным гостем, жалованьем нам
была вера в будущее. Может я ошибаюсь, может заблуждаюсь… однако
одно дело, когда человек встает и говорит: «Следуйте за мной, я
поведу вас!» – и совсем другое, когда покорная толпа обращает свои
блуждающие взоры и просит: «Иди с нами, хотим идти под твоим командованием!»…
– Человече! Задумайся над тем, что говоришь! – крикнул Понятовский.
– В тумане больше смысла, чем в твоих предположениях. Кто прежде
досаждал нам мучительнее всего? Кто решительнее всего стремился
стереть с нас пястову печать, кто силы свои использовал на беззаконие,
насилие самое тяжкое?! Австрия! С кем же сейчас ваш обновитель в
приязни, кто ему обеспечил нейтральный мир, с кем он в дружбе? С
Австрией! Надо ли говорить дальше? Ты полагаешь, что ради нашей
любви Бонапарт сорвет перемирие и третью силу на голову своей армии
обрушит?! Несбыточные мечты! Вы призовете людей к оружию, сформируете
отряды, а знаете ли, куда они должны идти? Ответь!
– Я, – шепнул в горячке Флориан, – я хочу умереть!..
Понятовский с беспокойством посмотрел на бледное, изменившееся лицо
Готартовского и спросил поспешно:
– Что с вами?
– Ничего! – вздохнул капитан, тщетно сопротивляясь внезапной слабости.
– Столько дней… столько ночей… напрасно!.. Дзевановский что-то должен
знать!.. Взяли ее… вывезли… Дом пустой… никого… и снова один.
– Ты болен?! Выпей вина… это тебя взбодрит… и на отдых. Мучаю тебя,
сударь, этой несвоевременной беседой, и даже не подумал о твоей
усталости.
Флориан не отвечал. Князь сильно обеспокоился внезапной болезнью
Готартовского. Позвонил слугам и приказал немедленно вызвать медика.
Тем временем полубесчувственного Флориана уложили на заранее приготовленную
постель в каморке за спальней князя.
Медик осмотрел Флориана и очень поспешно выписал рецепт. Болезнь,
по его мнению, была тяжелой, больного лихорадило столь сильной,
что без кровопускания, полагаясь только на чудодейственные лекарства,
обойтись было невозможно.
Понятовский искренне озаботился болезнью Готартовского и приказал
медику усердно ухаживать за ним.
Медик, узнав от слуг, что больной является совершенно никому не
известным офицером, советовал князю разместить его где-нибудь во
флигеле, поскольку больной, находясь в горячке, вполне мог впасть
в бред, и тем самым нарушить покой князя. Понятовский пропустил
мимо ушей советы медика, приказал оставить Флориана в коморке и
окружить всяческой заботой.
Пусто было на дороге, ведущей от Блони к Варшаве.
Эта часть страны после лихорадочных дней, после ночей, полных лязгания
оружия и вызывающих тревогу выстрелов, отдыхала в мирном, спокойном
сне. Французская армия широко развернула свои полки и пикеты. Здесь
уже можно было не бояться ни кучки припозднившихся всадников, показавшихся
на дороге, ни целого отряда. Перестали опасаться и отдаленного топота,
и звука сигналов. Тот, кто ехал по дороге, был без сомнения своим,
поскольку кто же отважится вклиниваться между марширующими французскими
колоннами?
Болонь спала. Спала крепким сном Варшава. А тем временем дорогой,
идущей через Блонь, ехали два всадника. Два всадника удивительных
и одеждой, и поведением, и отрывистыми фразами, которыми они изредка
обменивались.
Первый, закутанный в короткий, подбитый мехом, зеленый сюртук, в
лосинах, в надвинутой глубоко на лоб треуголке, повернутой в соответствии
с модой революции и Директории, посылал вперед белого как молоко
арабского скакуна.
Второй, в большой восточной чалме, в белом бурнусе, накинутом на
яркую одежду, с большим кинжалом и пистолетами за поясом, ехал в
двух шагах за первым всадником на черном как ворон коне.
Арабский скакун рассекал воздух и двигался вперед самостоятельно,
без шпор, без дергания поводьев. Скакал словно плыл. Сухая, изящно
изогнутая шея даже не вздрагивала, ноги вытягивались и сгибались
с непомерной силой, гибкостью и очарованием. Кровь скакуна играла,
каждая жилка тонких и стальных бабок вздрагивала, сверкающие глаза
коня извергали огонь. Иногда скакун дергал нетерпеливо мундштуком,
грыз стесняющее ему морду железо либо ржал протяжно, звучно, гордо.
Вороной следовал тотчас за сивым, но ни разу не высунул вперед головы,
и даже не пытался пойти с ним наперегонки.
Всадник в бурнусе, казалось, подражал своему коню. С каким-то идолопоклонничеством
он мчался за первым всадником, не спуская с него взгляда. Каждое
движение его небрежной, сутулой фигуры говорило, что он является
тенью того, кто едет впереди, что его предназначение заключается
в том, чтобы угадывать и выполнять.
В придорожной корчме под Блонем мерцал припозднившийся огонек. Первый
всадник вдруг осадил скакуна перед корчмой и бросил резко:
– Рустан!...
– Sire! ...
– Может, найдешь здесь кого!.. Спроси дорогу.
Всадник в бурнусе единым махом соскочил с коня, кинул ему на шею
поводья и влетел в корчму.
– Sire! – доложил он. – С ними не поговоришь.
– Солдаты, офицеры?
– Ни одного.
Словно в подтверждение слов мамелюка двери корчмы широко открылись
– на пороге обозначились три с любопытством смотрящие на дорогу
тени.
Бонапарт резко крикнул по-французски. Одна из фигур, угадав, что
кто-то их призывает, выступила за порог и низко поклонилась.
– Дорогу на Варшаву? – спросил Бонапарт снова по-французски.
– Простите, благородный господин… не желает ли господин переночевать?
Ой-ёй! Постель найдется! Слава Богу, разные офицеры уже ночевали.
– Varsovie! – крикнул нетерпеливо Наполеон, не понимая учтивых приглашений.
Корчмарь склонился едва ли не до земли.
– Что вы… Я ничего не знаю!.. Что мне до того? Были панове прусаки,
сейчас благородные французы! Ой-ёй! Разве это я устраиваю рогатки!
Нет никаких поборов! Едут себе по дороге… Ну и пусть едут!..
Бонапарт нетерпеливо дернулся, так что арабский скакун принялся
бить копытами.
– Рустан! Что делать!
– Тебе ведомо… sire! – ответил мамелюк, склоняя голову, а руки скрестив
на груди.
– Смотри за лошадьми! Придется здесь задержаться. Возможно курьер
или кто-нибудь еще, черт бы их побрал, будет проезжать и укажет
нам дорогу!
Наполеон легко соскочил с коня, бросил поводья Рустану и уверенным
шагом вошел в корчму – сопровождаемый евреем-трактирщиком и еврейкой.
Корчма под Блонем, как и все тогдашние корчмы, была грязной, обставленной
едва обрешеченной стойкой, скамьями и несколькими столами, освещенной
коптящей сальной свечой, насаженной на гвоздь при стойке, наполненной
спертым воздухом, зияющей пустотой.
Бонапарт обвел взглядом комнату, вздрогнул и, не обращая внимания
на лопочущих евреев, принялся большими шагами измерять корчму.
Тем временем корчмарь, а вслед за ним и еврейка, саменил за своим
гостем и приставал:
– Благородная особа, возможно, желает крупника ? Такого крупника
как у Мошки, а… вполне возможно, что и на целом свете нет! Нет?!
– Погоди, погоди! – прервала его старая еврейка. – Что ты морочишь
голову вельможной особе с крупником! Особа, быть может, пьет чистое
вино! Прошу вельможного пана… я посоветую, я вам скажу… машлач !!
Ну - так уже!.. Машлач!!
– Сальца! Ну и ну! – возмущалась вторая еврейка. – Тебе полагаешь,
что каждый так сразу должен пить! Благородный офицер… может, хочет
есть! Зачем дело стало! Яичницу из восьми яиц! Как?.. Я права?
– Цыц! Ша!! – вмешался корчмарь. – Прежде конь! Потом офицер! Таков
воинский порядок!.. Может, две меры овса?
Бонапарт поначалу не обращал внимания на беспорядочные выкрики и
на это сопровождение, однако вдруг почувствовал, что кто-то тронул
его за плечо. Он резко обернулся и хотел обругать смельчака - однако,
увидев эту потешную троицу, которая, шлепая языками и оживленно
жестикулируя, хотела жестами объяснить ему, как превосходно корчма
была обеспечена провиантом – рассмеялся.
Корчмарю только этого знака и надо было. Уже без церепмоний он приблизился
к Бонапарту, взял его под руку и проводил к скамье – полой халата
смахнул пыль и усадил гостя, после чего, кивнув еврейкам, стал расставлять
оловянные тарелки, стаканы, бутылки, хлеб, сыр, вареные яица. Так
что старшая из евреек сделала ему замечание:
– Мощек! Мошек! Ты не знаешь, что делаешь!.. Не военный, не шляхтич…
он тебе, может, не заплатит!..
– Что значит не заплатит!.. Пусть попробует!
– Большое дело!.. Мало ли разных разбойников! В одиночку, вдвоем
по ночам шляются!..
Замечание еврейки подействовало ошеломляюще – запал корчмаря остыл
в одну минуту. Он недоверчиво посмотрел на гостя.
Бонапарт, развлеченный неожиданным приключением и этим необычным
окружением, осматривал с любопытством бутылки, пытаясь понять, что
в них было. Под конец он отодвинул от себя и еду, и посуду,чем вывел
из терпения корчмаря и еврейку.
– Что, что это значит! – крикнул еврей. – Приказал себе принести,
а теперь ему не хочется есть… пить не хочется! Может, не хочется
платить!..
– Видишь, я сразу сказала! – поддержала старшая из евреек.
– Салца!.. Лети за солтысом ! – приказал еврей. – Посмотрим! Таскается
тут кто попало! Словно тут и людей нет?! Мои деньги? С вас причитается!..
Я здесь корчму не даром держу!.. Тут не может быть никакого разбоя!..
Корчмарь все назойливее стал подскакивать к посетителю. Шум усиливался.
Бонапарт слегка нахмурился, однако в ту же минуту за стеной, в соседней
боковушке раздался тихий шорох. Дверь медленно отворилась… в глубине
послышался короткий вскрик изумления.
Корчмарь с еврейкой, ожесточенные мыслью о неминуемой потере, не
обратили внимания на движение в боковушке и принялись еще настойчивее
жестикулировать и причитать:
– Вот что делают французские вояки… Тьфу!.. Я не позволю…
Жид не закончил фразы, поскольку в ту же минуту двери из коморки
с треском распахнулись и две могучие фигуры набросились на корчмаря.
В комнате поднялось облако пыли, раздался короткий пронзительный
писк, а затем грохот выброшенных в боковушку тел и странные призывы:
– Да всыпь же ты ему, неуклюжий! Ага, собаки! Кости вам переломаю!!..
Яся!!! Sacrebleu!! Отбросы!
Бонапарт в первое мгновение выскочил было из-за стола и схватился
за шпагу, однако прежде чем он сумел понять, кто так решительно
расправился с евреями, в комнате два голоса рявкнули во всю силу:
– Vive l'empereur!
Рустан с кинжалом в зубах и наведенными пистолетами уже стоял возле
императора.
Наполеон быстро посмотрел на две вытянувшиеся в глубине комнаты
фигуры и спросил коротко:
– Кто такие?!
– Мацей Зубр… унтер-офицер, – выпалил решительно огромный мужик
и слова застряли у него в горле.
– Иоанна Зубр, маркетантка первого легиона… первого батальона! –
смело ответила приземистая баба, хотя голос ее дрожал, а язык коверкал
французские окончания.
– Легиона?! Итальянского?!
– Так точно… general… Святой Антоний, вот глупость сморозила! Ваше
Величество!
– Были в сражениях?!..
– Адыга, Хохенлинден, Сальца… Маренго! – перечисляла баба. Наполеон
слегка скривился.
– Ты была?!..
– Была!
– А этот человек?
– Это… ваше величество, не человек, муж!
– Стало быть, тоже был?
– Был, ваше величество! – горячо подтвердила маркетантка.
– Тебя не спрашиваю! – указал бабе император. Зуброва неожиданно
утратила смелость, хотела объясниться. Однако французский ей изменил.
– Ваше величество, – начала она, показывая на голову мужа. – Здесь
у него пусто, но что касается этого… в сражении очень силен!..
– Дорогу на Варшаву знаете?
– Возвращаемся оттуда!
– Стало быть, проводите нас туда. Кони тут есть?..
– Так точно! – гаркнул на этот раз полной грудью Зубр.
– Уже… уже… раскатал губы! – проворчала себе под нос Зуброва.
Бонапарт вышел на дорогу и кивнул Рустану, чтобы подавал ему коня.
Но едва он успел сесть на коня, как тотчас позади услышал беспорядочный
топот. Оглянулся. Зубр и Зуброва на невысоких крестьянских конягах
уже сидели охлопкою .
Арабский скакун двинулся вперед, за ним последовал вороной, а следом
помчались мерины. Сначала кавалькада двигалась достаточно быстро,
но вскоре крестьянские лошадки, привычные только к небольшим передвижениям,
стали уставать. Несмотря на все усилия со стороны Зубра и Зубровой,
дистанция между ними и Рустаном все более увеличивалась, кроме того
буланый унтер-офицера, управляемый одним лишь недоуздком, упирался
и проявлял постоянное стремление нарушать дисциплину. Тщетно Зубр
стискивал его коленями, слегка толкал, причмокивал, понукал голосом
- буланый топорщил губу, тяжело дышал и замедлял бег.
– Яся! – шепнул умоляюще унтер-офицер.
– Видишь… растяпа! – буркнула баба. – И он еще хотел в кавалерию!
Мне то что? Путешествуй себе пешком! Думаешь, очень мне нужна твоя
компания?..
– Молчи… не справиться! – ответил кротко Зубр.
Маркетантка хотела энергичнее обругать мужа, однако и ее сивый в
эту минуту начал запинаться, а голову поворачивать к дому. Баба,
ужаснувшись, взмолилась – бурнус мамелюка уже едва виднелся в отдалении.
– Святой Антоний… вот счастье собачье! Мацей, огрей его хотя бы
кулаком.
Унтер-офицер заколебался, однако маркетантка решительно дернула
сивого поводьями и крикнула еще раз:
– Тресни, говорю… не то пропадем!
Привыкший слепо повиноваться, Зубр наклонился, поднял вверх кулак
и так ударил коня Зубровой, что тот припал к земле.
Угощенный таким мощным образом, мерин рванулся словно вихрь, выскочил
вперед. Маркетантка едва ли не у самого бока арабского скакуна сумела
умерить пыл крестьянской лошадки.
Бонапарт, который, задумавшись, галопировал впереди, вдруг обернулся
к Зубровой:
– Дорога верна?
– Несомненно, ваше величество, только у ариергарда нет арабских
скакунов.
– Как это?
– Не поспеваем.
Бонапарт придержал скакуна. Кони перешли на рысь.
Зубр сумел приблизиться.
– Далеко еще до Варшавы?
– Не меньше часа!..
– В скольких битвах участвовали?
– В тридцати двух… эта тридцать третья!
– О!!! Есть кресты?
– Есть! – ответила молодецки Зуброва
– Какие?
– … святой крест!
Наполеон быстро глянул на Зуброву.
– Не о том спрашиваю! О военном.
– Не имею, однако буду, ваше величество!
– Простите! Вы в этом уверены?
– Несмненно…
Бонапарт усмехнулся – ответ маркетантки ему понравился
– Как же вы думаетет его получить?
– Обыкновенно, ваше величество. Подвернулось бы знамя, а там остается
только помахать им немного, и «Легион» твой!
– Хм! Действительно! Простейший способ…
Император с возрастающим интересом стал присматриваться к бабе,
которая в свете луны, скорчившаяся на коне, с волосами выбившимися
из-под повязанной на голове косынки, выглядела как сказочная волшебница.
Вдруг внимание Бонапарта привлекла накидка, которой маркетантка
была укрыта.
– Что это на вас?!
– Это?.. Прусский штандарт, ваше величествро.
– Штандарт? Где? Откуда?
– Старая история! Ехали мы, было это дней десять назад, в Варшаву…
тащилось несколько прусаков с этой накидкой и – к нам! Мой старик
не замешкался, я стрельнула… и забрала ее себе, поскольку она плотная,
на морозе греет как шкура.
– Говорите правду, откуда вы, что тут делаете?
Зуброва не заставила его повторять приказ, путаясь, жестикулируя,
призывая на помощь святого Антония, она в конце концов управилась
и развернула перед Наполеоном историю своих хлопот, забот, радостей
и надежд на крестики, вставляя то и дело имя Готартовского и скорее
о нем, чем о себе повествуя.
Когда закончила, тяжело вздыхая о том, что девушку капитана прусаки
захватили, Бонапарт повернулся живо:
– Ну, стало быть Крест уже имеете.
– Мы? Где там, ваше величество.
– Имеете… ибо в эту минуту получили «Легион», – повторил с нажимом
Наполеон, – за эту косынку… за битву под Блонем!
– Яся! – рявкнул с воодушевлением Зубр.
– Молчал бы, старый помидор! – ругнулась баба.
– Стало быть, в голове у вас только «капитанша»… но и она со временем
найдется!.. Во всяком случае, одной заботой меньше… в Варшаве увидим.
– Ваше величество, мы не достойны такой милости! А забот не убавилось!..
– Не понимаю.
– Как ни велика честь, а надо будет еще о крестике стараться, поскольку…
хотя почет и немалый, однако…
– Мало вам! – бросил с неудовольствием император.
– Упаси Боже… разве что за жидовскую битву, поскольку муженек мой
на такую не завербовывался!
Наполеон рассмеялся, после чего напряг зрение.
Где-то там, в конце дороги, все яснее проступали темные контуры
города. Наполеон двинулся вперед резвее.
Маркетантка с мужем остались позади.
– Старый! – шепнула она.
– Яся… ну что?
– Стоишь ли ты такой жены?
Унтер-офицер кашлянул взволнованно, а спустя минуту спросил:
– Яся?
– Что? Чего?!
– Легион… Черт возьми!..
– Будь спокоен… я, признаться, опешила.
– И… и… я! – выдохнул унтер-офицер, тяжело сопя.
На заставе стоял французский пикет. Полусонный солдат прокричал
свое «кто идет?!» и вместе с конем погрузился было в дрему, даже
не ожидая ответа, вполне уверенный, что никто чужой здесь его обеспокоить
не может.
Тут раздался грозный возглас:
– Император!
Всадник и конь в одну минуту пришли в чувство, палаш сверкнул в
лучах месяца…
– Какой полк? – бросил Бонапарт.
– Четырнадцатый драгунский, князя Берга!..
– Открой заграждение… и проводи на гауптвахту.
Драгун пришпорил коня, галопом помчался вдоль окопов до следующего
пикета, а через несколько секунд вернулся и замер, салютуя.
– Вперед!
Драгун повернул коня и с места в карьер помчался, направляясь улицами,
ведущими прямо к Бернардинцам.
Гауптвахту занимала вторая рота тридцать девятого вольтижерского
полка. На часах перед гауптвахтой стоял молодой солдат Ля Рос. Третий
час уже приближался к концу. Солдат, догадываясь об этом, все нетерплеивее
смотрел на двери кордегардии, скоро ли покажется сержант со сменой
часовых. Был он скучный, уставший, замерзший. Среди пустынных темных
улиц не было живой души. Город спал. Ля Рос оперся на карабин, подложив
под руки рукава плаща, чтобы стальной ствол не морозил ему пальцы,
и думал. Думал о своем собачьем счастье на ночные стражи. Все вроде
бы в службе шло своим чередом, однако раз за разом так выпадало,
что случись дождь, мороз, сильный ветер… без всякого сомнения несомненно
ночное раскаяние его не минует. Наконец, в лагере, в поле, в цепи
он чувствовал себя бодрее. Был убежден, что следит за чем-то, что
что-то значит… а тут, в городе, да еще таком… стоять и ждать, не
вздумается ли какому-нибудь взбалмашному офицеру пройти перед гауптвахтой
и вернуться после… почитания его эполет или плюмажа… невероятный
случай.
Днем стоять на таком посту и забава, и настоящее развлечение. Люди
крутятся вокруг разные – есть на что посмотреть. А сейчас хоть глаз
выколи!.. В дополнение завтра полно работы с самого утра. На полдень
капитан назначил проверку ледерверков и патронташей. Три часа чистить
как минимум! Императора ожидают! Эх! Ему-то хорошо… Спит себе и,
наверное, еще и не думает приезжать, а тут солдат уже начинают мучить
смотрами.
Где-то в изгибах улиц раздался торопливый топот.
– Должно быть, эстафета к какому-нибудь маршалу. У бедалаг в кавалерии
такая же собачья служба! В такой холод скакать по пустынному городу!
Да! Ладно бы у нас в Dordogne!... Спокойно, тепло… солнечно…
Топот приближался все быстрее.
Солдат прислушался. На повороте улицы под колонной Зигмунта заметил
кучку всадников.
– Очевидно патруль! – сказал себе, и снова оперся о карабин.
Всадники тем временем приближались к гауптвахте. Солдат смотрел
на них равнодушно. Вдруг вздрогнул слегка и сильнее стиснул карабин.
Словно в глазах у него потемнело?..
Первый из всадников спрыгнул перед барьером гауптвахты и смело пошел
вперед.
Ла Росе вся кровь ударила в голову. Это был он. Император! Ошибиться
он не мог. Все же однажды видел его…
Солдат посмотрел на колокол для подачи сигнала тревоги… тот был
на противоположной стороне, а пока он к нему приблизится, император
может пройти мимо! Ла Рос, не тратя времени на раздумья, схватил
карабин, направил ствол вверх, выстрелил и встал навытяжку, салютуя
императору.
Из кордегардии выскочила рота солдат во главе с капитаном и вытянулась
в две шеренги перед зданием.
Капитан уже хотел было закричать по поводу тревоги, когда вдруг
услышал внушительный, стальной голос:
– Как поживаете, ребятки?..
– Vive l'empereur! – гаркнули солдаты.
– Кто командир?
– Капитан Хюло! Вторая рота тридцать девятого полка вольтижеров
корпуса маршала Дау, – доложил капитан.
– Кто стоял на посту?
Обжигающий холодный пот выступил на лбу.
– Рядовой… Ля Рос!..
– Смени его, капитан… он стал капралом. – Наполеон прошел перед
фронтом гауптвахты и скомандовал: – Налево кру-гом… назад шагом
ма-рш!
Рота вернулась в кордегардию. Наполеон вошел следом и сел за стол.
– Дайте воды.
Старый сержант убежал искать посуду, однако Бонапарт догадался о
его замешательстве и бросил резко:
– Эй, Дюкенуа, в манерке… В манерке!
Сержант зачерпнул воды и подал императору. Руки у старика дрожали
от волнения… император помнил его… назвал по фамилии… Счастье!
Наполеон, не обратив внимания на впечатление, которое произвел,
выпил с удовольствием воды, после чего кивнул уже стоявшему позади
мамелюку.
– Позови мне этих!... Знаешь!...
Рустан выбежал и тотчас вернулся, ведя Зубра и Зуброву.
– Доложитесь завтра маршалу Мюрату. И… этот ваш поручик тоже.
– Есть!
– Однако, madame… может, продадите мне эту вашу импровизированную
шаль?
– Ваше величество – продать не могу!..
– Почему?
– Поскольку старьем не торгую, а на это полотнище я исключительно
позарилась из-за холода.
– Вручишь его маршалу.
– Есть!
Наполеон отвернулся к капитану.
Спустя несколько минут император Франции вошел в Мраморный зал Замка,
сопровождаемый разбуженным бургграфом. Сорок королей и королев польских
смотрели на Бонапарта.
Варшава спала, мечтая об ожидающих ее праздниках. Наполеон тем временем
уже совершил свой триумфальный въезд.
<I>
<II> <III>
<IV> <V>
<VI> <VII>
<VIII> <IX>
<X> <XI>
<XII> <XIII>
<XIV> <XV>
<XVI> <XVII>
<XVIII> <Послесловие>
|