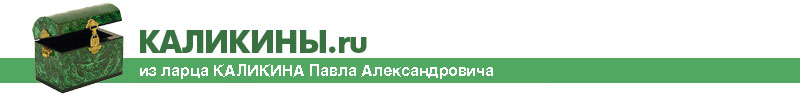|
Глава
пятнацдцатая
«Какая
тишина
после шумной жизни!..»
(1840
— 1861 гг.)
А.П.Ермолов —
П.Х.Граббе
«<…> Меньшой из сыновей
моих, имеющий хорошие умственные способности, учится так лениво,
что не сделает успехов, которые бы, в положенные для принятия в
учебные заведения годы, дали ему возможность выдержать экзамен,
для поступления во оныя установленный, почему хочу определить его
в войско под твоим начальством. Ты сделаешь мне величайшее одолжение,
и, конечно, благодеяние для него, если не откажешь мне принять его
и поручить строгому из командиров. Вот мои условия, буде таковые
позволительны, когда испрашивается милость. Ускорить производство
его в унтер офицеры, но далее офицерский чин он не должен иначе
заслужить как отличною храбростию и совершенною годностию. Jene
dua non. Я желаю, чтобы он достал его не по благоволению к нему
(то есть ко мне), но за труды, и это при недостатке других дарований,
будет большим ему удовлетворением. Опасностей я за него не страшусь
и самая смерть излишне не огорчит меня, ибо, вразумляя его, как
и других братьев, я не мог внушить того прилежания к наукам, того
стремления проложить себе путь трудами и усилиями и потому не почитаю
его достойным равной с иным участи и со стороны моей равного о нём
попечения. Теперь он учится в институте Лазаревых и там отзываются
с похвалою насчёт его поведения и при всей лености у него будут
мелочные познания, каковые между большой частью армейских офицеров
не весьма обыкновенные.
Недавно писал я тебе о здешних студентах, добровольно отправившихся
служить солдатами под твоим начальством. Не знаю, почему воспитанник
мой, не имеющий преимуществ породы, должен пользоваться большими
на службе выгодами, особенно же когда они, несравненно большие оказали
в науках успехи и могли сделаться людьми полезными.
Ожидаю твоего ответа.
Поздравляю с наступившим новым годом, желаю от души, чтобы он был
для тебя столько же счастливым, как прошедший и столько же благожелательные
были твои успехи. Продолжи мне прежнее твоё расположение, а я всегда
одинаково почитаю тебя и уважаю.
Твой Ермолов
4 генваря 1840 Москва».
«Весной 1841 года, следуя на Кавказ, в ссылку, Лермонтов
остановился в Москве. <…> Накануне отъезда Лермонтов передал
для редакции журнала «Москвитянин» своё новое стихотворение «Спор»
и просил напечатать его просто, без всяких примечаний от издателя,
с подписью его имени.
В этом стихотворении поэт в аллегорической форме рассказывает о
кавказской войне. Вопрос о том, с «Севером», то есть с Россией,
или с «Востоком» придётся идти кавказским горцам по пути дальнейшего
исторического развития, был для Лермонтова в 1841 году уже решённым
вопросом. <…> Спор Казбека с Шат-горою завершается в стихотворении
Лермонтова картиной победоносного движения русских войск, предводительствуемых
генералом Ермоловым. Имя Ермолова в стихотворении не названо, но
современники легко угадывали его по строчкам:
И испытанный трудами
Бури боевой
Их ведёт, грозя очами,
Генерал седой.
<…> совершенно не ясно, почему Лермонтов вспомнил
о Ермолове в 1841 году? Ермолов был давно удалён с Кавказа и уже
четырнадцать лет жил на покое в России. Почему Лермонтов не назвал
его имени? Почему просил редакцию «Москвитянина» напечатать стихотворение
просто, без примечаний, словно был уверен, что редакция непременно
захочет сопроводить стихотворение какими-то пояснениями?
До сих пор исследователи не могли дать на эти вопросы никакого ответа.
А между тем, связывая в 1841 году покорение Кавказа с именем генерала
Ермолова, Лермонтов вкладывал в своё стихотворение острый политический
смысл. Этот смысл стихотворение приобретало потому, что Ермолов
находился в опале.
Ермолов — суворовский ученик, герой Бородина и Кульма, один из самых
прославленных участников Отечественной войны 1812 года. После смерти
сподвижников Суворова - Кутузова и Багратиона — он, несомненно,
был в русской армии самой популярной фигурой.
Политическое вольномыслие Ермолова, его презрение к придворной клике
и к столичной бюрократии послужили главной причиной его назначения
на Кавказ. Правительство Александра I опасалось его популярности
и стремилось удалить Ермолова из столицы.
В 1816—1827 годах, в пору пребывания Ермолова на Кавказе, русские
войска добились наибольших успехов. Демократические порядки, которые
он ввёл в армии, создали ему среди солдат и офицеров огромный авторитет.
В «Герое нашего времени» Лермонтов подчеркнул, что старый кавказец
Максим Максимыч с гордостью и уважением вспоминает опального Ермолова
и называет его в разговорах по имени-отчеству.
«А вы давно здесь служите?
«Да я уж здесь служил при Алексее Петровиче, — отвечал он приосанившись»,
— пишет Лермонтов в «Бэле». <…>
Направляясь в 1829 году на Кавказ, в ставку Паскевича, Пушкин сделал
200 вёрст лишних, чтобы повидать Ермолова, жившего в ту пору в Орле.
«В первый раз не знакомятся коротко, — писал Ермолов Денису Давыдову,
— но какая власть высокого таланта! Я нашёл в себе чувство, кроме
невольного уважения».
Интерес к личности Ермолова побудил Пушкина через шесть лет обратиться
к нему с письмом, в котором он изъявлял желание написать историю
его жизни и деятельности или быть издателем его записок. Ещё раньше
Пушкин сообщал брату своему Льву Сергеевичу, что собирается заняться
историей Грузии и историей ермоловских войн на Кавказе...
Заметки на полях
«Напрасно ожидал я, чтобы вышло, наконец, описание
Ваших закавказских подвигов… Ваша слава принадлежит России, и Вы
не вправе её утаивать. Если в праздные часы занялись Вы славными
воспоминаниями и составили записки о своих войнах, то прошу Вас
удостоить меня чести быть Вашим издателем. Если же Ваше равнодушие
не допустило Вас сиё исполнить, то я прошу Вас дозволить мне быть
Вашим историком…»
А.С.Пушкин
...Со слов современников мы знаем, что и Лермонтов незадолго до
смерти задумал книгу об истории кавказской войны, «с Тифлисом при
Ермолове, с его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, Персидской
войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране».
Если вспомнить при этом, что в последний год своей жизни Лермонтов
на Кавказе близко сошёлся с Львом Сергеевичем Пушкиным, мы почти
с полной уверенностью можем сказать, что он знал от Льва Сергеевича
об этом неосуществлённом замысле Пушкина и что его собственный замысел
написать о Ермолове представляет собой как бы «творческую эстафету»,
принятую от Пушкина. Но в самое последнее время обнаружены факты,
которые проливают на историю этого замысла новый и яркий свет.
До сих пор почти никому не известно, что Лермонтов написал «Спор»
после свидания с Ермоловым. Свидание это состоялось в Москве зимою
1841 года. Это явствует из чернового письма генерала Павла Христофоровича
Граббе — командующего войсками на Кавказской линии и в Черноморье
— к Алексею Петровичу Ермолову. Письмо это, помеченное 15 марта
1841 года, только недавно обнаружено лермонтоведом С.А.Андреевым-Кривичем
в Центральном военно-историческом архиве в Москве.
«В письме Вашем от 17 февраля, — начинает и вычёркивает Граббе,
— Кн. Христов доставил на прошлой неделе нашего выборного человека
с письмом Вашим от 17 пр. м-ца. В этом письме Вы упоминаете о Г.Бибикове,
о котором Вы за три дня перед тем (отправили) писали ко мне... в
ожидании его я медлил ответом на последнее, не имея сведения, получены
ли два письма мои к Вам, одно по почте, другое с г. Лермонтовым
отправленное...»
Этот документ потребует ещё внимательного изучения, но и без того
ясно, что неофициальные сношения Граббе с Ермоловым, в которых Лермонтов
принимал хотя бы косвенное участие, представляют собой очень большой
интерес. Тем более что, отсылая с письмом к Ермолову другого офицера,
Граббе писал: «...он передаст вам изустно... подробнее, нежели позволило
бы то письменное изложение». Очевидно, и Лермонтову было поручено
что-то передать Ермолову на словах.
Итак, Лермонтов уезжал в Москву с рекомендацией Граббе, человека
ермоловского круга и ермоловского образа мыслей.
<…> Граббе высоко ценил «ум и беседу Лермонтова» и старался
покровительствовать ему, когда поэт вторично, сосланный на Кавказ,
прибыл в его штаб-квартиру. Зимою 1840—1841 года Лермонтов в Ставрополе
запросто бывал в его доме.
Первая встреча с Ермоловым произошла, очевидно, сразу же по прибытии
Лермонтова в Москву, то есть в первых числах февраля 1841 года.
О чём могли беседовать опальный поэт с опальным генералом? <…>
Зная, что Лермонтов задумал писать о кавказской войне после свидания
с Ермоловым и что кроме того он вынашивал ещё замысел и другого
романа — из времён Отечественной войны, — можно предположить, что
он расспрашивал Ермолова о Бородинском сражении, о взятии Парижа,
об усмирении горцев, о Персидской войне; расспрашивал о Грибоедове...
Все эти темы отразились в планах последних замыслов Лермонтова.
...Поэт находился уже в Петербурге, когда туда «в связи с бракосочетанием
наследника» — будущего Александра II — прибыл Ермолов. Тотчас по
приезде, сообщает биограф, он просил военного министра доложить
царю о его приезде. Но шли дни, а ответа всё не было. Наконец Николай
I принял Ермолова 16 апреля — в день свадьбы, перед разводом, в
густой толпе «являвшихся» и «кланявшихся» придворных.
В эти самые дни Лермонтов написал «Спор», в котором изобразил могучее
движение русских войск под начальством Ермолова. Следуя Пестелю,
следуя декабристам, он провозглашал опального полководца главою
Кавказа:
От Урала до Дуная.
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая
Движутся полки.
Веют белые султаны
Как степной ковыль,
Мчатся пёстрые уланы,
Подымая пыль.
Боевые батальоны
Тесно в ряд идут;
Впереди несут знамёны,
В барабаны бьют.
Батареи медным строем
Скачут и гремят,
И, дымясь, как перед боем,
Фитили горят.
И испытанный трудами
Бури боевой
Их ведёт, грозя очами,
Генерал седой.
Идут все полки могучи,
Шумны как поток,
Страшно медленны как тучи,
Прямо на восток.
В таком контексте цензура имени Ермолова никогда
бы не пропустила и, если бы поняла, о ком идёт речь, запретила бы
стихотворение к печати. Примечания от издателя могли только повредить
делу.
Известие о гибели Лермонтова привело Ермолова в ярость. Старый полководец
понял, что убийца отделался от наказания потому, что выполнил давнишнее
желание царя и придворной толпы. «Уж я не спустил бы этому Мартынову,
— говорил Ермолов, притопывая в гневе ногой. — Если бы я был на
Кавказе, я бы спровадил его... Уж у меня бы он не отделался. Можно
позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный:
таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождёшься!... Поэты
суть гордость нации».
И.Л.Андроников, «М.Ю.Лермонтов и А.П.Ермолов»
«Алексей Петрович дожил до глубокой старости. Зиму
он проводил в Москве, в собственном деревянном доме по Гагаринскому
переулку, недалеко от Пречистенского бульвара, а лето — в подмосковном
имении Осоргино. «Какая тишина после шумной жизни! Какое уединение
после всегдашнего множества людей!» — записал Ермолов в своём дневнике.
Посещавшие Осоргино друзья говорили, что его хозяин, подобно римскому
императору Диоклектиану, получал неописуемое удовольствие от выращивания
кочанов капусты. Но большую часть времени генерал проводил среди
книг своей замечательной библиотеки, которую начал собирать ещё
с юности. В 1855 г. он уступит это книжное собрание Московскому
университету (оно и поныне хранится там). Вот что сообщал тогда
он попечителю учебного округа В.И.Назимову: «Библиотека генерала
Ермолова составлена из 7 тыс. томов (или несколько более) на французском
языке и небольшой части русских и латинских; также собрания хороших
топографических карт, не менее 180 экз. Книги хороших изданий и
многие иллюстрированные, в числе их известнейшие живописные обозрения
или путешествия значительной ценности, все довольно красиво переплетённые.
Карты, подкленные в футлярах, и весьма много в листах». Библиотека
особенно славилась изданиями по новой и, прежде всего, военной истории,
а также политике, словесности, изящным искусствам и путешествиям.
При этом в Ермолове открылся талант самый неожиданный! П.Х.Граббе
увидел в его кабинете «книги и карты, разбросанные в беспорядке,
горшочки с клеем, картонная бумага и лопаточки: его любимое занятие
— переплетать книги и наклеивать карты». «Знаете, чем он весь день
занимается? — вопрошает зачастивший к генералу великий князь Михаил
Павлович. — Переплетением своих книг! Он, говорят, сделался в этом
смысле таким искусником, что никакой цеховой переплётчик его не
перещеголяет». А историк А.Г.Кавтарадзе указывал, что искусство
переплетения книг Ермоловым сравнивали с такими знаменитостями,
как Винье и Келлер, и что он написал даже специальное руководство
для переплётчика. Руководство это до нас не дошло, зато известно
признание самого Алексея Петровича, где он, похоже, как будто удивляется
своему новому, сугубо мирному ремеслу. «Ничего не умевши сделать
из себя лучшего, — пишет он другу, Н.П.Годейну, — я искусился в
этом роде работы, так что если обратили бы меня ранее к полезным
занятиям, я мог бы сделаться примечательным кожевником. Надобно
убедиться, что нелегко познать способности людей!»
Лев Бердников, «Остёр до дерзости...»
«В 1840-х годах Н.П.Хитров открыл своё переплётное
заведение в Москве во флигеле дома князя Андрея Петровича Оболенского
(1769—1852) на Рождественке, д. 12. Князь был весьма просвещённым
человеком, много сделал для восстановления Московского университета
после войны 1812 года, был избран почётным членом его учёного совета.
Дом был довольно известным местом среди дворянского общества Москвы,
в нём бывали писатели, художники, так что дефицита заказчиков у
Н.П.Хитрова не было.
Как это часто бывает, переплетенье судеб привело к неожиданному
повороту событий. Учеником арендатора флигеля стал герой Отечественной
войны Алексей Петрович Ермолов (1771—1861), заходивший в гости и
к хозяину усадьбы, и в мастерскую Н.П.Хитрова. Знаменитый генерал
к этому времени имел собственное переплётное заведение, используемое
для содержания личной библиотеки. Его мастерская располагалось в
имении Лукьянчикове в Мценском уезде в 18 верстах от города Орла.
В последние годы своей жизни полководец переехал в подмосковное
имение Осоргино, куда перевёз и свою переплётную. Ермолов с большим
удовольствием занимался переплётным искусством вместе со своими
крепостными, а затем — вольнонаёмными. По одной из версий, А.П.Ермолов
учился переплётному ремеслу еще в молодости, полагая, что после
прихода к власти якобинцев именно так придётся зарабатывать на хлеб
насущный».
Пресс-релиз выставки «Аромат книжного переплёта.
Отечественный индивидуальный переплёт XIX-XX веков»
«В девятнадцатом столетии жил в Москве переплётчик
Егор Герасимов. Не красовалась его мастерская роскошными вывесками,
не гнался он за эффектом и дутой популярностью, но любил книгу,
по его выражению, как «животрепещущий материал». Он не составил
себе капитала, но имя его осталось надолго в памяти многих, как
имя переплётчика-артиста.
Работу Герасимова можно было видеть на Политехнической выставке
1872 года. Надо заметить, что главное внимание обращалось им не
на штамповку или золото, а на самую работу. «Дайте мне мастера,
— говорил он, — который сидел бы рядом со мною и работал со мною
же. А то эти фирмы, — продолжал Герасимов, — хлопочут только о медалях
и вывесках, сами же далеко не мастера своего дела». Все выставленные
им книги были проданы на месте, а он получил медаль, кажется, серебряную,
за самую, по-видимому, простую, но чистую, замечательно аккуратную
работу.
Жил и работал Герасимов в крепостное время, был крепостным. Владелец
Герасимова, в то время ещё мальчика, отдал его в учение переплётчику
Хитрову, хорошему мастеру и строгому учителю. К этому Хитрову хаживал
нередко известный генерал Ермолов, участник Отечественной войны
1812 года, тоже большой любитель переплётных работ. Ермолов захотел
выучиться переплётному мастерству, и Хитров охотно взялся обучать
генерала.
Работая у Хитрова из любви к искусству, Ермолов, обходя мастерскую,
внимательно всматривался в работу каждого. Чаще всего он останавливался
у Егора Герасимова, гладил его по голове, говоря: «Молодец, Егорка!
Ты будешь хорошим мастером».
Лет через десять барин приказал отдать Герасимова в солдаты за какую-то
провинность. Герасимов отправился к Ермолову, рассказал ему о своей
беде. Ермолов подумал.
— Очень жалею, что хороший мастер идёт в солдаты. Подожди.
Затем вынес ему какое-то письмо.
— Вот, отдай это письмо своему барину, а если ты всё-таки попадёшь
на службу, то вот тебе пять рублей на дорогу.
Что было написано в этом письме, осталось неизвестным, но только
барин отменил своё решение. Герасимов всегда с глубокой благодарностью
вспоминал Ермолова».
«Московская старина», по А.А.Астапову
«...Я уже не свободный художник, а служащий в департаменте
военных поселений Военного министерства. Потеряв здоровье и притом
надежду быть отправленным за границу, я, покорный судьбе, решил
избрать хоть немного, но верный кусок хлеба…»
На вожделенную Италию деньги всё не собирались, а здоровье продолжало
ухудшаться: сырой Санкт-Петербург медленно убивал художника. Обеспокоенный
болезнью горячо любимого приёмыша Пётр Николаевич Ермолов настаивает
на возвращении в Москву — проживём, будут заказы!
И возвращение оказывается счастливым: там семья, к которой Пётр
Захаров так душевно привязан. С нескрываемой нежностью написан «Портрет
детей П.Н.Ермолова» и портрет самого названного отца.
В Москве — дружеская семья Постниковых, в ней бывает весь медицинский
мир, цвет московской интеллигенции, поэты, писатели, Гоголь захаживает,
Языков, Пётр Киреевский. А ещё там красавица Сашенька, тайная любовь…
С избытка чувств подряд пишутся лучшие портреты: писателя А.Н.Муравьёва,
историка Т.Н.Грановского, красавицы Александры Алябьевой — Захаров
тонко передал её блеск, воспетый Пушкиным, хирурга Ф.И.Иноземцева,
врача И.П.Постникова, брата ненаглядной Саши.
А ещё композитора П.И.Булахова — он тоже бывал у Постниковых, здесь
впервые исполнял свои знаменитые романсы «Тройка», «Вот на пути
село большое». А романс «Гори, гори, моя звезда» будто бы о самом
художнике написан, о его нескрываемом чувстве, что заметно было
всем друзьям.
Парадный Ермоловский портрет принёс Захарову не только звание академика,
но и новые официальные заказы. Пётр Захарович пишет Максимилиана
Лейхтенбергского, президента Академии художеств и царского зятя.
И собственную будущую тёщу тоже: портрет Н.А.Постниковой ныне числят
среди самых сильных его работ.
Да, да, это случилось, 14 января 1846 года в церкви Покрова Богородицы
в Кудрине, точно там, где нынче стоит одна из московских высоток,
бледный от волнения Пётр Захарович стоял об руку с Александрой Петровной.
А шафером — сам генерал Алексей Петрович Ермолов, крёстный отец!
Счастья оставалось ровно на пять месяцев: 15 июня в той же Покровской
церкви рабу Божию Александру отпели. Скоротечная чахотка, бич времени,
что поделаешь…
Могучего барса — чахотку Захаров тоже не одолел: ещё до Рождества
лёг на Ваганьковском кладбище рядом с супругой. Судьба отмерила
ему ровно тридцать лет. «...Захаров, чеченец по происхождению, известен
как отличившийся и необыкновенно обещавший в сём же роде живописи...»
— скорбела по поводу его кончины Императорская Академия художеств.
Работы второго, по мнению Карла Брюллова, портретиста России (первым,
конечно, был сам Брюллов) украсили Эрмитаж, Третьяковскую галерею,
Русский музей.
Да, заслужил я жребий мой!
Могучий конь, в степи чужой,
Плохого сбросив седока,
На родину издалека
Найдёт прямой и краткий путь...
На родину Петр Захаров тоже вернулся: автопортретом.
Тот самый «Воинственный автопортрет в бурке и с ружьём» и ещё несколько
его работ хранились в республиканском художественном музее в Грозном.
Сейчас их восстанавливают в Москве — картины пострадали в чеченскую
войну. Точно как их автор когда-то».
Александр Беленький,
Федеральный познавательный журнал «Горец»
«В начале знакомства моего с А.П. ему было 76 лет…
Он представлялся в моём юном воображении окружённым каким-то особым
величием. Добродушная простота, величавая скромность и всегдашняя
безукоризненная вежливость доставили ему ту необыкновенную популярность
и, можно сказать, поклонение в русской армии, которыми так редко
пользуются известные военачальники.
— Любезный Аполлон, — говаривал мне А.П. — вежливость есть самая
дешёвая монета, но всегда в хорошем курсе. Я поставил себе за правило
никогда не отдавать поклон сидя. Я всегда перед каждым прапорщиком
вставал…
Обед его был самый простой: перед обедом подавалась рюмка водки
и неизменная килька; затем какой-нибудь бульон с гренками или суп
с кореньями; второе блюдо — подгорелая котлета или пережаренная
тетёрка; затем для меня, собственно, что-нибудь сладкое. Бутылка
кахетинского постоянно находилась на столе, потому что А.П. получал
это вино бочками в подарок от своих кавказских друзей. Сам А.П.
довольствовался всегда двумя блюдами и, как бы плохо ни были приготовлены
они, никогда не заявлял неудовольствия. Повар его был почти постоянно
пьян и очень хорошо знал, что получит одинаковую благодарность как
за хороший, так и за дурной обед. А.П. говорил мне, что, если бы
ему подали жареную ворону или кошку, для него это было бы безразлично.
Чувства брезгливости он не знал и рассказывал, что ему долго было
незнакомо чувство обоняния; только на 50-м году своей жизни он почувствовал
запах цветов.
Обыкновенно А.П. сидел в своём кабинете в круглом старинном кресле,
обитом сафьяном. На столе, под рукой у него находился носовой платок
и табакерка. Памятна для меня бронзовая фигурка Наполеона I и такой
же колокольчик с изображением грушевидной головы Луи-Филиппа. В
двух углах кабинета стояли мраморные бюсты: императора Александра
Павловича и императрицы Елизаветы Алексеевны; по стенам несколько
картин и гравюр, изображавших наполеоновские битвы… В одном углу
кабинета была собачья постель, на которой покоилась толстая, старая
собака, ублюдок породы бульдогов по прозванию Бирка, пользовавшаяся
особенным расположением и заботливостью Алексея Петровича.
В последние годы жизни А.П. его управляющим и компаньоном досугов
был Максим Максимович, которого А.П. называл «Мемекою»… — Максимович
нянчил его сыновей, и маленькие дети, не умея выговаривать Максимыч,
называли его Мемекою; с тех пор за ним и осталась эта кличка. Приходя
иногда к А.П. в послеобеденное время, я часто заставал Мемеку сидящим
в кресле по другую сторону стола, против А.П. Оба они, склонивши
головы, погружены были в дремоту. Такова была патриархальная простота
в обращении с приближёнными бывшего главнокомандующего кавказскими
войсками, отличавшегося постоянно в пылу сражений необыкновенным
героизмом и самообладанием…
А.П. обладал особенною способностью мимики; физиономия его принимала
такие своеобразные выражения, что, глядя на него и следя за его
рассказами, в воображении моём живо рисовались отдельные типы и
характеры личностей, о которых шла речь. Он любил выражаться коротко,
часто лаконически и фигурально; так, например, рассказывая, как
он приучал себя в прежнее время к самообладанию и, желая противиться
представившемуся обольщению, старался в самом зародыше умерщвлять
свои страстные призывы; он при этом выразился так: «Я всегда поступал
с собою так: «за волосы и оземь» и говорил это с энергическим и
выразительным жестом…
В Светлое Воскресенье А.П. не разговлялся семейно или со своими
знакомыми. После утрени и ранней обедни к нему приходили человек
десять отставных заслуженных солдат, большею частью дряхлых ветеранов.
А.П. христосовался с ними и садился вместе с ними за стол. Никто
из посторонних не присутствовал при этом…
В Великий четверг А.П. слушал двенадцать Евангелий у себя на дому,
потому что не мог долго стоять на ногах. Когда швейцар докладывал
о приходе священников, А.П. вставал, опираясь на руку Максимыча,
и говорил мне:
— Ну, любезный Аполлон, пойдём слушать историю Христа…
Религиозности особенной я в нём не замечал; казалось, на него повлияло
веяние философии XVIII столетия; но он верил в духовную жизнь и
имел видения…
Необыкновенно экономный образ жизни А.П. с соблюдением приличной
всегда внешней обстановки превосходил всякое вероятие. Он занимал
весь двухэтажный каменный дом, хотя небольшой, но с барскою обстановкою.
Прислуги у него было человек пятнадцать, а лошадей держалось четыре.
И на всё это расходовалось около 4 тыс. руб. в год. Случалось, что
Максимыч при мне приносил утром отчёт расходов и шкатулку. А.П.
отпирал её находившимся в его жилетном кармане ключиком и давал
ему деньги на расход. Он говорил мне, что жилет его, домашней работы,
стоит около 50 коп., а пальто не более 3 руб.
Однажды император Николай Павлович в одно из пребываний своих в
Москве был очень милостив к А.П. и осведомился у графа Закревского
о материальном положении А.П. Император поручил Закревскому спросить
А.П., не имеет ли он какой надобности, которую государь мог бы удовлетворить,
или не имеет ли он желания занять какой-либо пост на государственной
службе. Ермолов отвечал Закревскому такими словами:
— Я искренне благодарю государя моего за всё его милостивое внимание
ко мне; но прошедшего возвратить невозможно. При всём могуществе
императора он, конечно, признаёт могущество Божие. Но сделает ли
Бог, чтобы вчерашнего дня не было?»
А.В.Фигнер, «Воспоминания о Ермолове»
«Способность вышучивать и острить, однако, не покидала
опального генерала и на склоне лет. Рассказывают, что в 1841 г.
Ермолов занемог и послал за своим доктором Выготским, но тот, купаясь
в деньгах и славе, пренебрёг своими обязанностями и приехал только
на следующий день. Между тем Алексей Петрович, оскорблённый небрежностью
сего эскулапа, взял себе другого врача. Когда же приехал Выготский,
генерал велел ему передать, что он болен и принять его не может».
Лев Бердников, «Остёр до дерзости...»
М.C.Воронцов — А.П.Ермолову
«<…> Скажу тебе сегодня, что сын твой (Клавдий
Алексеевич) молодец и вполне достоин носить твоё имя; к истинной
моей радости он остался невредим, хотя в горной артиллерии, в последнем
периоде нашего похода, в пропорции более потери, нежели во всех
других командах; мне самому досталось видеть, с каким хладнокровием
и искусством он наводил свои орудия под сильным ружейным огнём;
и начальники, и товарищи отдают ему полную справедливость. Я жду
только рапорта ген. Козляинова, чтобы сделать для него уже здесь
то, что от меня будет зависеть.
Прощай, любезный Алексей Петрович, пожалуйста, отвечай мне на письмо
это и скажи мне, что у вас в Москве про нас говорят.
Всегда любящий тебя и преданный тебе М.Воронцов».
«Из сыновей твоих два младшие
действовали в батареях и здоровы».
11 июля 1848 г.»
«Возникший в октябре 1853 г. военный конфликт между
Россией и Турцией, на стороне которой затем выступили Англия и Франция,
положил начало тяжёлой и изнурительной Крымской войне. В помощь
регулярной армии в России стали формироваться ополчения. 15 февраля
1855 г. московское дворянство единогласно избрало Ермолова начальником
Московского ополчения. Через несколько дней Ермолов получил уведомление
об избрании его начальником Петербургского ополчения, а вслед за
этим — начальником ополчений Новгородской, Калужской, Орловской
и Рязанской губерний, что свидетельствовало о большой популярности
Ермолова. Он согласился возглавить Московское ополчение. Было сформировано
два его батальона, которые Ермолов даже представлял наследному датскому
принцу, приезжавшему в Москву. Но вскоре Ермолов отказался от этой
должности, мотивируя отказ своим преклонным возрастом».
В.А.Фёдоров, «А.П.Ермолов и его «Записки»
Заметки на полях
«На нашем безлюдье как не дорожить Ермоловым!»
П.Вяземский
«В чёрном нанковом широчайшем сюртуке, на который
был нацеплен георгиевский крест — первый, суворовский, а другой,
большой, белел на шее, в таких же нанковых и широчайших брюках без
подтяжек, с кучей всё ещё густых белых волос на огромной голове,
с морщинистым лбом и широким носом, похожий ещё, правда, на льва,
но уже на льва, дожившего до предельного возраста, Ермолов, вооружась
очками, читал адресованное ему московским дворянским собранием письмо,
писанное Погодиным:
«Генерал! Московское дворянство, призываемое священным гласом царя,
ополчается на защиту православной веры, на помощь угнетённым братьям,
на охранение пределов отечества. Оно просит вас принять главное
начальство над его верными дружинами и смеет надеяться, что вы уважите
его торжественное избрание. Сам Бог сберегал вас, кажется, для этой
тягостной годины общего испытания. Идите же, генерал, с силами Москвы,
в которой издревле отечество искало и всегда находило себе спасение,
идите принять участие в подвигах действующих наших армий. Там ваши
ученики и младшие товарищи, все наши храбрые солдаты. Пусть развернётся
перед ними наше старое, наше славное знамя 1812 года. Все русские
воины будут рады увидеть в своих рядах вашу белую голову и услышать
ваше славное имя, неразлучное в их памяти с именем Суворова и именем
Кутузова. Неприятели вспомнят скоро Кульм, Лейпциг и Париж, а магометанские
их союзники — Кавказ, где до сих пор ещё не умолкнул в ущелиях отголосок
ваших побед. Идите, приняв благословение в Успенском соборе перед
гробами наших древних святителей. Братия наша, которая пойдёт с
вами, будет беречь вас, как драгоценное русское знамя 1812 года,
а те, которые останутся дома, будут молиться, чтобы вы возвратились
скорее с честью и славою, доказав ослеплённой Европе, что святая
Русь остаётся неизменно святою Русью и, несмотря ни на какие опасности
и ни на чьи угрозы, не позволит никогда никому прикасаться без наказания
к её заветным святыням: церкви, престолу и отечеству».
Раза два-три при чтении этого письма вытирал Ермолов побелевшие,
как и волосы, глаза полосатым красным носовым платком, встряхивал
головою и снова брал письмо в огромные и точно какою-то рыбьей чешуёю
покрытые, плохо сгибавшиеся руки. Когда же дочитал его, сказал:
«Да-а!.. Хорошо. Только очень поздно вспомнили!» — покачал головой
и начал перечитывать письмо снова. Опять прослезился в двух-трёх
чувствительных местах, наконец поднялся, с трудом разгибая поясницу,
откашлялся и полез в карман своих необъятных, свободными волнами
обтекавших его слоновьи ноги штанов за табакеркой, чтобы несколько
успокоиться и привести в равновесие слишком расплескавшиеся мысли.
Но как раз в это время доставлено ему было другое письмо, более
короткое, гораздо менее красноречивое, зато как будто начальственно
предупреждающее: это писал ему граф Закревский, что до него дошли
какие-то странные слухи, будто московское дворянство наметило выбрать
его, генерала Ермолова, в начальники ополчения. Закревский не сомневался
в том, что он откажется от этого хлопотливого и ответственного поста
ввиду своего преклонного возраста и неразлучных с ним недомоганий,
но хотел бы всё-таки, чтобы он известил его об этом.
— Не ввиду преклонного возраста! — рявкнул вдруг побагровевший Ермолов,
бросая на пол письмо. — Нет, конечно! А ввиду того, что там, в Петербурге,
могут не утвердить, — вот почему! Бо-ишь-ся? А-а!.. Ну, раз ты этого
так боишься, то я в таком случае непременно дам своё согласие дворянству!
А там уж посмотрим, что из этого выйдет!
Пудовые руки его так крупно дрожали, когда он сел писать ответ Закревскому,
что он долго не мог вывести ни одного слова и только портил лист
за листом бумагу.
Наконец, успокоившись, кое-как написал:
«Милостивый государь граф Арсений Андреевич! Благодарю вас покорнейше
за сообщение мнения вашего на предмет предстоящих выборов и со всею
откровенностью отвечаю вам. Не знаю, можно ли избирать меня по носимому
мною званию; но если я буду удостоен избрания московского дворянства,
я не должен уклоняться от службы наравне с каждым дворянином, не
имея пред лицом закона никаких особенных прав и не давая места суждению,
ещё менее негодованию, если бы даже не утверждён был в звании начальника
губернского ополчения, в каковое я, вероятно, могу быть избираем.
Легче всего могут найтись люди способнейшие и не в праздности дождавшиеся
престарелых моих лет. Двадцать четыре года, вышедши из службы по
приказанию, я не был употреблён на службу деятельную, и в теперешнем
случае нимало не удивлюсь и не приму к сердцу, если, как и прежде,
не признан буду за годного. Впрочем, благодаря Бога я доволен совершенно
моим положением, ничего не желаю и, конечно, искать не стану. Вот
моя исповедь почтеннейшему графу, и никому другому я не скажу иначе.
Душевно преданный Ермолов».
Письмо это он не скрыл от своих близких. В один и тот же день пришло
оно и к Закревскому и в двух-трёх списках в Дворянское собрание.
Его читали громогласно в толпе дворян, собравшихся на выборы. Тут
же снимались с него копии, и оно пошло гулять по всей Москве, добралось
даже до торговых рядов. Это сдержанное рычание старого льва принималось
за вызов правительству, открытый упрёк ему за опалу, тянувшуюся
четверть века.
Говорили, не опасаясь даже доносов:
— Небось, если бы Алексей Петрович провёл всё это время на службе,
а не сидел бы поневоле без дела в Москве, он не допустил бы, чтобы
армия наша уступала в чём-нибудь французско-английской. Он давно
бы потребовал штуцеры взамен ружей и много кое-чего ещё! Неудобен
был немцам нашим, — вот почему отстранили!.. Не зря просился Алексей
Петрович, чтобы произвели его в немцы!
В середине февраля проведены были выборы начальника московского
ополчения. Из двухсот восьмидесяти шаров только шесть было чёрных,
что было приписано проискам Закревского. Четверть часа кричали дворяне
«ура» в честь Ермолова. Восторг Москвы был неслыханный, как будто
над интервентами одержана была решительная победа, а не над одним
только генерал-губернатором Закревским.
Но в тот же день пришла телеграмма из Петербурга, где также закончены
были выборы начальника петербургского ополчения. Оказалось, что
Ермолов выбран был и там тоже, притом, в укор Москве, совершенно
единогласно. Пришла и другая телеграмма, что выборы утверждены царём.
Теперь настал черёд выбирать Ермолову между Петербургом и Москвой.
Москва волновалась страшно, — вдруг он предпочтёт столицу! Автор
послания к нему от дворян — Погодин — был послан уговорить его остаться
с Москвою, где он нашёл себе такой долговременный приют. Ужасно
спешили с этим, потому что прошёл слух, будто едет уже в Москву
депутация от петербургских дворян с тем, чтобы обольстить его сладкими
речами и увезти в столицу.
Погодин отправился, как на бой, с пылающим сердцем. Возвращения
его ждали в собрании встревоженно и не расходясь. Наконец, он явился
сияющий, возглашая ещё от дверей:
— Остаётся с нами! Петербургу отказ!.. Помолодел старик на двадцать
лет!
Снова восторженно кричали «ура» и, за отсутствием Ермолова, принялись
качать Погодина…»
С.Н.Сергеев-Ценский, «Севастопольская страда»
«В связи с избранием А.П.Ермолова начальником ополчения
Московской губернии графиня Е.Ростопчина посвятила ему стихотворение:
Народный голос — голос Бога,
Он громко ныне вопиёт:
Вставай, Ермолов: Русь зовёт!
Тебе знакома ведь дорога.
С единодушным увлеченьем
Тебя назначила молва,
И над московским ополченьем
Вождём поставила Москва.
Возьми рукой неослабелой
Свой старый меч, французов страх,
Наш вождь, в походе поседелый,
Помолодеешь ты в боях.
Вставай! Честь русского народа
Ея врагам припомяни,
И пусть двенадцатого года
Великие воскреснут дни…
На это стихотворение существует ответ, который одни
люди приписывают Ермолову, другие — самой Ростопчиной:
…Вы помянули год восстанья,
Дни нашей славы, дивный век,
Когда, услыша глас призванья,
Явился русский человек…
Вы правы, может, там забыли…
Но наш не позабыл народ,
Когда Москву мы хоронили,
Двенадцатый свершился год!...
<…> Но в ополчении Ермолов пробыл недолго.
Как это зачастую бывает, большое дело загубили мелочи.
По положению о губернском ополчении при начальнике должен быть один
адъютант. Ермолову показалось это недостаточным, и он попросил определить
ему хотя бы ещё одного, на что получил от военного министра ответ,
что его просьба признана излишней. Это задело Алексея Петровича
настолько, что он поставил обиду выше доверия, оказанного ему обществом:
«… вижу, что просил излишнего; а это показывает, что я уже стар,
сделался неразумен: прошу — чего не должно, поступаю — как не следует»,
— с горечью написал он и попросил уволить его, «неспособного», «от
начальствования над ополчением».
Петербург словно того и ждал. Его уволили тотчас».
В.П.Матвеев, Е.Н.Годлевская, «Алексей Ермолов. Денис
Давыдов»
Н.Н.Муравьёв — А.П.Ермолову
«30 сентября 1855 г. Лагерь при Чифтлигае.
Порадуйтесь, Клавдий — кавалер Георгия по представлению ген. Базина
и утверждению думы. Говорил я и представляющим, и утверждающим,
что никому, кто бы ни был, не покровительствую в сём деле, и потому
крест сей решён без моего покровительства, а по заслуге, сыном вашим
оказанной, что вас тем более должно утешать. Сегодня он дежурный
и с крестом в петлице».
Н.И.Вольф — А.П.Ермолову
«31 декабря 1858 г.
<…> Николай Алексеевич привёз мне наилучшие известия. Он же
доставил мне и письмо, которое вам угодно было удостоить меня от
10-го дек., и которое возгордился я пред всеми моими кавказскими
товарищами, как будто бы я заслужил такой высокий знак вашего внимания.
Могу разве только обещать вам, твёрдо обещать, что постараюсь заслужить
вашу ко мне доверенность и доказать Николаю Алексеевичу, как все
мы, кавказцы, свято храним память нашего отца-командира; тем приятнее
мне будет исполнить этот долг, что сын ваш, своими прекрасными качествами,
заслужил уже общую любовь и уважение своих начальников и сверстников».
Н.Сухозанет — А.П.Ермолову
Милостивый государь Алексей Петрович!
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, со всемилостивейшим вниманием к заслугам вашего
высокопревосходительства, высочайше повелеть соизволил:
1. Из формулярных списков воспитанников ваших: командира батарейной
№ 4 батареи лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады полковника Виктора;
прикомандированного к штату ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА генерал-фельдцейхмейстера,
лейб-гвардии той же бригады капитана Клавдия; и адъютанта Московского
военного генерал-губернатора штабс-капитана лейб-гвардии конной
артиллерии Севера Ермоловых, исключить прежнее показание первых
двух — из мещан, а последнего из купцов г. Москвы, и впредь показывать
их всех трёх из дворян; и
2. Четвёртого брата их, воспитанника Михайловского артиллерийского
училища Николая Ермолова возвести в потомственное дворянство, в
одно время с выпуском его на действительную службу из сего училища,
и в то же время представить к ВЫСОЧАЙШЕМУ подписанию указ о сём
Правительствующему Сенату.
Примите уверение в совершенном моём почтении и преданности.
Все дети Ермолова получили дворянство, но, однако,
они считались воспитанниками и не являлись наследниками древнего
рода Ермоловых, ведущего от татарского музы Арсалан-Мурза-Ермолы,
который ещё при великом князе Василии Иоанновиче (1506) приехал
из Золотой Орды и не имел своего герба. Алексей Петрович сочинил
детям новый герб: скрещенные русская шашка и кавказская сабля с
надписью Sobis ermis.
Впоследствии Александр II повелел признать сыновей Ермолова, в уважение
его заслуг перед Отечеством, потомственными дворянами и его законными
детьми».
о. Сергий (Разумцев), «Потомки Ермолова»
«Последние годы своей жизни А.П. усидчиво писал
свои записки. Я заметил однажды, что такое напряжение и однообразное
занятие при совершенном недостатке движения не может быть полезно
общему состоянию его здоровья и что моё мнение разделяет часто посещавший
его доктор О.И.Иноземцев.
На это замечание А.П. отвечал: «Мне надобно торопиться; жизнь моя
недолга». Когда я сказал, что при его телосложении и некотором внимании
и предосторожностях в образе жизни можно ещё долго прожить, он возразил:
— Мне это не нужно; я уже чувствую усталость от жизни; к тому же
есть ещё у меня одно соображение по поводу одного случая, бывшего
давно со мною, и о котором, может быть, немногие знают.
…Было это в ту пору, когда я был назначен главнокомандующим экспедиционным
корпусом в Италию. Однажды я возвратился к себе в самом лучшем настроении
духа и расположился для размышлений в своём кресле. Вдруг предо
мною явился какой-то человек, никогда мною не виданный. Меня удивило,
что он вошёл без доклада, тогда как в приёмной комнате были люди.
Не успел я сделать ему вопроса, как он стал говорить: «Счастье тебе
улыбается, ты переживёшь лучшую эпоху твоей жизни. Так будет продолжаться
ещё десять лет, затем в судьбе твоей произойдёт перемена, ты испытаешь
неудачи и несчастья». Потом он стал говорить мне о наиболее замечательных
случаях в предстоявшей мне жизни, определил с точностью, сколько
мне осталось жить, и вдруг исчез с такой же неожиданностью, как
и было появление. Поражённый необычайностью такого явления, я стал
проверять себя, не причудилось ли оно мне в состоянии дремоты? Слова
и голос незнакомца ещё звучали в ушах моих, память моя определительно
сохранила всё сказанное мне им, и я поспешил немедленно записать
всё слышанное в точном хронологическом порядке. Записанное мной
хранится доселе в моих бумагах. Последовавшие за тем события в моей
жизни с совершенной точностью оправдали дивное предсказание.
При усилении болезни ему уже трудно было долго оставаться в кресле
и он ложился. Но промежутками, во время облегчения, опять садился
в своё любимое кресло.
В один из таких дней я по обыкновению пришёл осведомиться о его
здоровье… А.П. взял меня за руку и, грустно склонив голову, сказал:
— Теперь уже, брат, я совсем обабился.
Это была последняя из полушутливых фраз, слышанных мною от этой
благородной и высокой личности. Вскоре уже А.П. не мог сидеть в
кресле и окончательно слёг в постель… Его постоянно окружали сыновья
и самые близкие к нему лица. Чтобы отвлечь внимание от своих страданий
и развеять висевшую в воздухе тоску, А.П. просил, чтобы при нём
играли иногда в карты. К постели придвигали стол, и сыновья его
играли в преферанс…»
А.В.Фигнер, «оспоминания о Ермолове»
«Не в виде замечания или возражения смею поставить
следующее на вид корреспондента, сообщившего вам известие о кончине
А.П.Ермолова. В это время меня не было в Москве. По возвращении
я много говорил о ней и распрашивал его душеприкащика, Ивана Васильевича
Лихачёва, и старого управляющего Максимыча, которого он звал Мемекою
и который служил при нём на Кавказе, управлял всеми его делами,
хозяйством, и проч., но ни от кого не слыхал я, чтобы Алексей Петрович
знал или предчувствовал время своей кончины и приготовлялся к ней
в каком-нибудь отношении.
Прилагаю несколько заметок, доказывающих то же, из моих записок.
В 1860 году я собрался осмотреть Кавказ и заехал к Алексею Петровичу.
В передней мне сказали, что он отдыхает. Через час я получил от
него следующее собственноручное письмецо:
«Отъезжая на Кавказ, почтенный Михаил Петрович сделал одолжение,
посетив старожила страны. Борящийся с болезнию, я отдыхал в это
время и не мог принять вас, но, желая чрезвычайно видеть вас, я
готов побеседовать с вами о стране, оставившей во мне одни приятныя
воспоминания. Вы изберите удобнейшее для вас время сегодня или завтра
в продолжение дня. Если возможно по летам моим дожидаться возвращения
вашего, из замечаний ваших увижу, исполняются ли надежды мои на
процветание великолепнаго края, при началах вводимаго отличнаго
благоразумнаго управления. Особенно уважающий Алексей Ермолов».
Пред смертию Алексея Петровича сыну его любезнаго управляющаго надо
было ехать в Петербург. «Сколько тебе истратить нужно?» — «Рублей
50». Ермолов отворил ящик, где у него разложены были деньги на похороны
и расходы. «Денег-то здесь мало, ну как проживу дольше?» Однако
ж дал 50 руб.
Г.Степанов записал у себя под 18-е марта 1856 года, что напечатано
в моих материалах.
«Кабинетное окно (в доме Алексея Петровича) завешано тёмно-синею
материею. На глазах шёлковый зонтик. Я спросил его о здоровье. «Плохо,
брат, отвечал он; вот с 14-го числа страдаю глазами». Он сказал
мне, что в глазах его предметы как-то странно двоятся. «Например,
я смотрю на тебя, а вижу двух Сашей, у которых, вместо головы, обои
и картины. Вот табакерка, я хочу взять её, так я непременно ищу
её здесь», и он показал пальцем вершка на три от табакерки. «Точно
так же и карты все лезут одна на другую. Да, прибавил он, это уже
le commencement de fin» (— начало конца (фр.)),
при этом он улыбнулся. Я заметил ему это. Он отвечал, что с твёрдостию
и шутливостию встретит свой конец. Мы продолжали разговор на ту
же тему. Он всё шутил, говорил, что ещё молод (79 лет), что предчувствует,
что долго ещё проживёт на свете. Жалел только, что зрение начинает
изменять ему».
А.П. занемог в марте месяце 1861 г. Врачи отчаялись в его жизни.
Но ему стало лучше, и 1-го апреля, почувствовав себя очень хорошо,
он сказал: «Славно я обманул докторов, — выздоровел!»
Скончался он 12-го апреля 1861 года, сидя в своём кресле, имея одну
руку на столе, другую на колене; за несколько минут он ещё прихлопывал
ногою.
Так разсказывал мне неотлучно находившийся при нём Максимыч.
Желательно было бы видеть записку Алексея Петровича, вполне напечатанною,
с fac-simile (— факсимиле (фр.))».
М.П.Погодин, «О кончине А.П.Ермолова.
Письмо к редактору»
Читать следующую главу
|