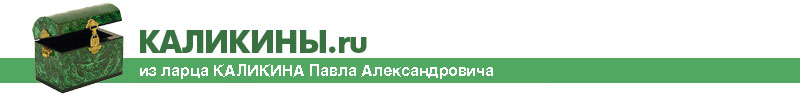
| На главную страницу... |
| Сказки |
|
Тугаринов
дар
|
ТУГАРИНОВ ДАР
В лето одна тысяча сто девяносто седьмое, среди зимы, родилась у Вышгородского князя дочь. имя ей нарекли Ефросенья, а прозвали Изморагд.
– Изморагд? – задумчиво изрек старый князь. – Чудный самоцвет. Вот и еще одно драгоценное каменье в моем семействе.
И был
в тот день пир на весь мир и радость великая в славном Вышеграде.
В ту же зиму, в ту же темную ночь, в том же Вышгороде, но не в княжьих
хоромах, а в избе древодела Макулы родилась дочь. Беден был Макула, а
потому так решил: «Уж коли нелегкая доля ожидает дочь мою, то пусть хоть
имя у нее будет доброе, ласковое и нежное». Так и нарекли новорожденную
Настенькой.
Много дней прошло с той поры. Семнадцать зим и семнадцать весен минуло. Трудными были те зимы для Настеньки: и голод, и холод познала она, – да только ни по чем они красоте девичьей. В трудах да в заботах, что ни день – расцветала Настенька, весь Вышгород – и мастеровой, и торговый, – только и говорил, что о ней. Да и как не говорить! Глянет Настенька - словно зорька ясная лучом озарит, улыбнется Настенька – словно солнце красное теплом одарит, а уж коли слово молвит...
– Что-то будет с тобою, доченька? – вздохнув скажет Макула и головой покачает.
– Полно тебе, Макула, – укоряют его соседи, – Иль не видишь, что счастье в твой дом пришло: такая невеста навыданье! Даром что беден, жди женихов богатых!
– Не в богатстве счастье. – ответит им Макула и лукаво глаз прищурит. – Был бы милый люб, не глуп и не скуп, работящ и скромен - будет и счастье в доме.
Удивляются соседи: «Чудит старик!» Им и невдомек, что знает Макула о ком слово молвит. Пока соседские кумушки судили да рядили, в избу к Макуле сваты заявились. Заявились и сосватали Настеньку за каменосечца Ивана. По любви назвала его Настенька своим суженым.
То-то переполошились кумушки: «Свят-свят белый свет! Ей-ей правды нет. Уж как мы следили, и судили, и рядили, женихов перебирали, а сватов прозевали. Свят-свят белый свет!» И долго еще корили бы они друг дружку, если бы на ту пору не прибыли в Вышгород князя Северского послы сватать красавицу Измарагд.
Дело к свадьбе полнилось, да не к добру мир слухами полнился. Прослышал о готовящейся свадьбе Змей Горыныч – Злой Тугарин князь и недоброе дело задумал. По весне, едва зацвели сады, черной тучей налетел он на Вышгород и выкрал красавицу Измарагд из княжеских палат. Лишился Вышгородский князь своего драгоценного камень я.
Закручинился старый князь, запечалился.. Два дня и две ночи не выходил он из своих покоев, поседел, осунулся. А на третий день призвал к себе Северского князя и благословил его на дело ратное, снарядив в поход вести свое войско.
Пуще князя запечалились тогда вышгородцы. Со слезами, с причитаниями провожали они мужей и братьев своих. Со слезами проводила и Настенька своего суженого.
Горькие то были слезы. Большая печаль легла на ее сердце: такая же долгая, как ожидание.
А Северский князь тем временем все шел и шел с войском. Шел дремучими лесами и болотами, шел через реки и долы, шел полем и степью, пока не дошел до гор. Тут-то и увидел он на самой высокой горе Тугаринов град. Увидел и ужаснулся., потому что с горы той сорвалась туча черная, спустившись, выпустила из себя воинов числом несметным и мглою покрыла землю.
Не ожидало князя Северского войско такой напасти. Многие полегли, меча не обнаживши, а кто успел меч свой булатный над врагом занести, и те живота лишились, иных же Злой Тугарин в полон взял. Когда же рассеялась мгла и солнце воссияло лучами своими, содрогнулось оно, увидев поле бранное, вороньем и трупами усеянное, и спряталось за облаками.
Вслед за тем очнулись полоненные воины в темнице, так как двери ее отворились и выпустили их на свет, но не на волю, а на смерть лютую.
Стояла та темница у самого края скалы, возле глубокой пропасти. Такой глубокой, что и конца ей не видно было. Вновь ужаснулся Северский князь, увидев перед собой самого Тугарина в высоких креслах сидящим, а вокруг него и по краю обрыва – воинов Тугариновых, и одеждой, и ликом темных, как и сам Змеище.
– День добрый, светлый князь. – усмехнувшись молвил Змеище. – Отчего взгляд твой хмур и невесел? Иль не по сердцу тебе мое гостеприимство? Так скажи.
Нахмурился князь, гордо поднял свои светлые очи и, глянув смело на злого Тугарина, так ответил:
– Не за тем я край отчий покинул, чтоб с тобой, Змеище, язык русский поганить, а за тем, чтобы суженую мою, Измарагд, из неволи выручить, да тебя, нечестивца, проучить, дабы не творил напастей на землю русскую. Отдай мне невесту мою, а не хочешь – верни меч мой булатный и выходи на честную битву!
Засмеялся злорадно змеище.
– Хоробр ты князь. Ох и хоробр на слове. Коли так и на брани ты лих, отчего же в полон мне попался. Отчего меч свой булатный из рук выпустил? Молчишь!
– Не досуг мне лясы точить. Верни меч, да выходи, гнида, на честную битву! – ответствовал князь во гневе.
– Будь по-твоему, князь, – вмиг посуровев, заговорил Змеище. – Будь по-твоему. Вот он, меч твой булатный. Лови!
И бросил меч, да не князю, а в пропасть глубокую.
– Что стоишь? Ступай за ним на поле бранное – там и сойдемся на честную битву.
Не сдержался князь, перекрывая смех, голосом грозным так молвил:
– Смеешься? Смейся, змея подколодная. Да только знай, поганый: не страшусь я тебя, как и смерти своей не страшусь. После поругания чести моей, люба стала мне смерть, пуще жизни полонной люба. Русичь я, и княжеского роду, посему на поле бранном умереть мне к лицу! – ми кинулся было князь к обрыву, да поймали его воины Тугариновы, скрутили, руки в железа заковали и пред Змеищем вновь поставили.
– Не ценишь ты, князь, головы своей, да и мне, признаться, она ни к чему. А вот честь твою я, пожалуй, себе оставлю – именно такой и не хватает в моей сокровищнице. Ты уж не обессудь, – молвил он и, словно сочувствуя, руками развел, а на самом-то деле знак подал воинам своим. И увели они несчастного князя, чтобы посадить в ту самую темницу, в которой томилась красавица Измарагд.
Тугарин Змей тем временем сделался ликом грозен и, окинув взором орлиным, взором кровожадным полоненное войско, гаркнул что было мочи:
– На колени!.. На колени, холопово племя!
И дрогнуло войско. Кто сам к неродимой земле припал о пощаде моля, кого силой преклонили. Лишь один среди всех на ногах стоял, как камень недвижен.
– На колени, холоп! Иль жизнь тебе не дорога!
– Не холоп я – каменосечец вольный Иван, сын Петров из славного Вышеграда. Хоть жизнь и дорога мне, а честь дороже. Сроду ни пред кем на коленях не стаивал, не встану и по смерти, наипаче пред тобой, Змеище поганый.
Поразили те слова Тугарина.
– Козявка. Жук навозный! И ты о чести говорить вздумал?! А ну! Смотри, каменосечец вольный Иван, как честь людская по камням пластается. – и, с кресел поднявшись, гаркнул Змеище вдругоряд: – Эй! Грязь подноготная! Кому жизнь дорога да воля, пусть к ногам моим на коленях ползет, да к сапогу моему приложит уста – сперва к правому, затем к левому. Ну же, славное воинство, поторапливайся!
Рано, рано Тугарин возрадовался. Как един человек, все войско полоненное поднялось с колен и так стояло нешелохнувшись. Не дрогнули русичи, не склонили головы. И тогда, почернев от гнева, повелел лютый Змеище своим воинам всех столкнуть до единого в пропасть. Один за другим срывались пленники с обрыва, но никто не взмолил о пощаде, ни единый голоса не подал. Все погибли... Лишь Иван, заточенный в железа, был посажен в сырую темницу, чтоб почить в ней медленной смертью.
А тем временем в Вышеграде каждый день с первым светом, до зореньки, собирались жены и матери, выходили за стену градову, поднимались на гору высокую ожидать возвращения войска. На дорогу безлюдную глядючи, так стояли они до вечера, причитая и убиваяся. Гору ту стали звать люди Туговой, потому что сыра-земля ее все горючие слезы кручинные до последней слезинки впитала, иссушив страдалицам очи.
В той великой печали минуло лето красное, а по осени до земли поклонилась Настенька и отцу, и родимой матушке. Поклонилась и слово молвила:
– Ты прости меня, батюшка. Ты прости меня, матушка. не ругайтесь, не гневайтесь, но благословите в путь-дорогу дальнюю, в края неведомые. Не успокоится сердце мое, покуда не сыщу я друга милого. Коли полег мой Иванушка на поле бранном, то раны его слезами омою, ясны очи закрою и в земле схороню, а коли жив он, то быть мне с ним рядом – вместе горе-злосчастье делить.
Погоревали батюшка с матушкой, да делать нечего – дали свое родительское благословение. И ушла, попрощавшись, Настенька в путь нелегкий, в дорогу дальнюю, на беду свою иль на счастие – и сама того знать не ведает.
Долго шла Настенька лесом и долом, полем и степью, но все ж нашла она поле бранное, вороньем и трупами усеянное. немало полегло здесь добрых молодцев, немало буйных голов ко сырой земле припало, да только не было среди них ее Иванушки.
Как ни сумрачно было на сердце, просияла, промолвив, Настенька:
– Видно жив, жив мой милый Иванушка. Обошло стороной горе лютое – не нашла его смерть разлучница. Где ты, свет мой? Мой месяц ясный! Где искать тебя?
– Здесь я, Настенька, – донеслось вдруг в ответ... Иль послышалось? Нет. Вот снова, чуть слышно: – Здесь я...
Ног не чуя, пустилась Настенька на тот звук и едва не сгинула, провалившись в яму глубокую на закраине поля бранного. Огляделась красавица. Видит – ход подземный у края ямины, а в конце его – свет мерцающий и, чуть слышно, голос Иванушки все зовет ее: «Настя! Настенька!..»
Боль и страх забыв в одночасье, побежала она в подземелье, и чем дальше бежала, тем явственней голос милого друга слышала, а когда очутилась в пещере, увидала его – Иванушку – заточенным в железа гремящие.
– Свет мой. Милый мой. Любый мой, – шептала Настенька, обнимая суженого.
– Жив, жив, ненаглядный, – повторяла она, целуя уста его алые.
Но что это?!.. Сбросив железа, засмеялся бесовски Иванушка... да и не Иванушка это вовсе – Злой Тугарин, Змеище лютый сотворил над ней шутку злую.
В первый миг испугалась Настенька. отшатнулась, словно ужалилась, но оправилась вскоре и молвила:
– Вот каков ты, Змеище Лютый?
– Да, таков. Не узнала, красавица? Иль тебе перестал я нравиться? Поцелуй же меня без оглядки. Словно мед уста твои сладки. – зашептал ей вкрадчиво змеище.
– Отчего ж, поцелую с охотой. Раз,.. другой,.. и третий... для ровного счета, – в тон ему ответила Настенька и отвесила Тугарину три такие звонкие пощечина, что поганый Змеище на ногах не устоял, на камни упал; упавши, не скоро поднялся, а поднявшись, не скоро промолвил:
– Что ж, спасибо, гостья незваная, за гостинец бесценный. Приласкала ты меня, ну да и я в долгу не останусь. Помнится мне, ты Ивана искала? Вот и ступай к нему, поделись с ним лаской душевной. Не все же мне, старику, ею потчеваться, – и под раскатистый смех Тугаринов очутилась Настенька в темнице рядом с милым другом Иванушкой.
Хитрую месть измыслил Змеище. Думал он, что Иванушка с Настенькой, как и Северский князь с Измарагд, от тяжелой жизни невольной меж собою браниться станут, да просчитался. Не знал, не ведал поганый, что настоящую любовь никакой беде не сломить. Через ту беду, по своей вине потерял злой Тугарин покой.
Прежде, бывало, зайдет он в темницу, глядит – не нарадуется. Завидят его князь с княжной, и давай хулить да бранить. Уж они и кричат, и ругаются, и ногами от ярости топают. разъярятся, разойдутся, меж собой передерутся, в кровь друг дружку исцарапают, Змея люта до слез развеселят, а на Иванушку грусть-тоску наведут зеленую.
Не то теперь сделалось. Живут меж собой Иванушка с Настенькой – мир да любовь. На злого Тугарина и внимания не обращают. Заговорит с ними Змеище – отвечает ему Настенька спокойно да вежливо, словно и нет на сердце обиды. да и князь с княжной присмирели: не бранятся, не ругаются – сидят себе рядком и слушают мирком, как Настенька песни поет.
Ох уж эти песни! И откуда в них такая сила? Чувствует Тугарин князь, что недоброе творят они с ним, а ничего поделать не может. Из-за песен тех хотел было вовсе Змеище в темницу не хаживать, да куда там, ноги сами несут. Чего только не творил над собой – все напрасно. А однажды с ним и вовсе беда приключилась.
Задержался он возле темницы, да заслушался песней кручинной: о неволе, о доме родном да о горе-злосчастии лютом. И случится же такое! Та песня за живое задела Тугарина. Не сдержался, зашел он в темницу и промолвил:
– Послушай, Настенька. Отпущу я тебя на волю. Ей-же-ей, отпущу. Только спой мне еще раз ту песню. Так, чтоб слезы из глаз в три ручья.
Заблестели глаза у Настеньки. В них надежда, как искорка, вспыхнула... и угасла.
– Не могу я, Тугарин-князь, с милым другом расстаться. Да и князя с княжной как в неволе оставить?.. Нет, не могу. – и потупила взор.
Не на шутку разошелся Тугарин-князь.
– А я всех вас на волю выпущу, только спой ты мне песню кручинную.
– Не слушай ты его, Настенька! Измывается над нами Змеище. Люту душу свою тешит, – перебил его Иванушка.
– Да пой же ты, пой! – в один голос закричали из своего угла Северский князь с Измарагд.
– А не обманешь? – переспросила Настенька.
– Коли разжалобишь до слез – душа не позволит. – ответил Тугарин и замолчал.
Тихо сделалось в темнице. Так тихо, что сердец перестук негромкий словно звон колокольный доносится. Может быть, из той тишины и родилась песня. еле слышно она звучала: неторопливая, тягучая, кручинная...
Ой ты поле,
Чисто поле.
Летом травами шумело,
Вместе с жаворонком пело.
Нынче в поле
Ветер воет,
Да лихая бродит доля.
Словно и не поет Настенька, а сама по себе льется песня. да и не слова у той песни, а слезы живые звучащие...
Ой ты доля,
Моя доля.
Я тебя как мать родную
Берегу в годину злую.
Как ни холю,
Мне на долю
Выпадает только горе.
Слушает Иванушка, а по щекам слезы сами собой катятся и глаза застилают. А в глазах – дом родной, и отец,.. и матушка...
Ой ты горе,
Люто горе.
Мое счастье зорькой алой
В синем небе трепетало.
В синем море
Гаснут зори...
Знать на то господня воля.
Слушает ту песню Тугарин князь и диву дается. С ним такого еще не случалось: слезы сами на глаза наворачиваются...
Ой ты воля,
Птица-воля!
Улетела в край далекий,
Мне оставив рок жестокий,
Чисто поле,
Слезы вволю,
Да мою лихую долю...
Смолкла Настенька и... заплакала. Следом за ней и Иванушка заплакал, и Северский князь, и Измарагд. Лишь Тугарин-князь, хоть и слезы в глазах, едва чужие слезы завидел, лютым Змеищем вновь обернулся: засмеялся, заахал, заохал. Слыша смех тот, пуще прежнего зарыдала Настенька. обида жгучая примешалась к горю горькому, камнем тягостным на сердце легла.
– Не плачь. не плачь, Настенька, – успокаивает ее Иванушка, а Змеище пуще прежнего от смеха надрывается. Тут и молвил ему Иванушка: – А что, Змеище поганый, сдержишь слово свое нечестивое, коли я тебя своей песней до слез доведу?
– Сдержу, Иван. Все сдержу, – не подумав ни мало, ответил Тугарин. Не скоро понял он оплошность свою, да и Иванушка времени даром не терял, запел он голосом звонким:
Гой! Гой!
Вслед за мной
Вся голь
Песню пой.
Пой голь:
- Гой еси!
Житье славно на Руси!
Не ожидал Тугарин Змей такого зачину. Изумился он, а Иванушка дальше поет:
Во тесовы ворота
Постучалась Нищета:
– Эй! Есть кто живой?
В дом пустите на постой.
Я не вор. Я не тать.
Негде зиму зимовать.
Я сама Нищета.
Отворяй ворота.
- Жили миром меж собой –
проживем и с нищетой.
Ой гой! Гой еси!
Житье славно на Руси!
Понравились таковы слова Тугарину, повеселел он, а Иванушка дальше поет:
Не успела Нищета
Войти в избу,
В ворота
Постучались тиуны
Слову княжьему верны
– Эй, голь-нищета,
Отворяй ворота!
Повелел славный князь
С вас подушную взять:
С дыма, с хлеба и с ворот,
С нищеты – по гривне в год.
Ой, гой! Гой еси !
Житье славно на Руси!
От этих слов и вовсе развеселился Змеище – стал посмеиваться да в кулак покашливать, а песня дальше звучит:
Отворили ворота,
А за ними Нищета:
Нет ни жита, нет ни скоры.
Тиуны на руку скоры:
Не честили, не секли -
Княжьим смердом нарекли
И больного, и худого,
И малого, и седого,
Лишь оставили на воле
Нищету да чисто поле.
Ой, гой! Гой еси!
Житье славно на Руси!
Не выдержал Змеище, рассмеялся, да так, что по щекам его впалым солоны слезы в три ручья текли. Силился Тугарин тайком утереть те слезы, да скрутил его смех – ни рукой, ни ногой не двинуть. Пособил ему Иванушка и молвит:
– Что ж, Тугарин князь, я свою песню спел, теперь за тобой слово.
Вмиг насупился Змеище, взгляд свой в стену каменну уставил, да деваться некуда, пришлось ответ по-правде держать.
– Перехитрил ты меня, Иван. за одно это сдержу я свое слово.
И подарил им Тугарин-князь четырех коней вороных, скакунов удалых.
– Езжайте себе, живите, радуйтесь!
С этими словами и отпустил своих пленников Змей Горыныч, Тугарин князь на волю вольную.
Тут бы и сказке конец, но дорога до Вышгорода дальняя. Чего только той дорогой не случается.
И день, и другой скакали путники. Скакали горами высокими, скакали степями широкими, а на третий день легла та дороженька лесами дремучими.
Все бы ничего. Коли на сердце легко – и дорога легка, да только Северский князь начал хмуриться, на Иванушку косо поглядывать. Не сиделось князю спокойно в седле. Не мог простить он Ивану речей его вольных и песни насмешливой. Потому и хмурил брови, пока худого не измыслил, а как измыслил, так и сделал.
По полудню, на привале, едва Иванушка с Настенькой в лес за хворостом ушли, князь с княжной своих коней заседлали, чужих к седлам привязали. Только и видели Иванушка с Настенькой, как они ногу в стремя ставили, а как в седла вскочили – одни следы оставили.
Мчит на дареном коне Северский князь, на себя не нарадуется: «Ай да я. Лицом не ударил в грязь!» Только он так подумал, как понесли их кони вороные: сперва ельником, затем сосельником, потом чащобой дремучей... Вдруг!.. С обрывистой кручи да в воду – плюх! От коней – березовый дух, а князя с княжной вовсе нет нигде, лишь круги по воде.
Вот тебе и Тугаринов дар: не в того был нацелен, да в того попал. И поделом. А Иванушка с Настенькой, оставшись вдвоем, погоревали, потужили, утерли слезы да в путь поспешили; и хоть пешему путь длиннее вдвойне, шли да шли, и по весне воротились домой. Весь люд простой – и мастеровой, и торговый, – во славу жизни новой на весь мир честной справили пир горой. Жаль не был я там, мед не лил по устам, а не то б и о том рассказал чередом.